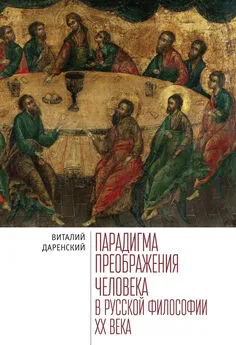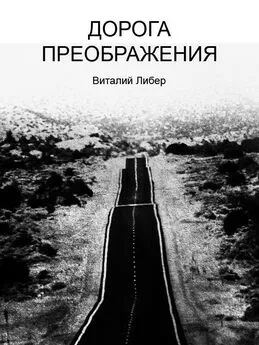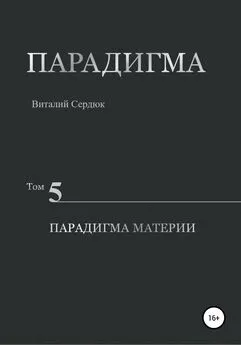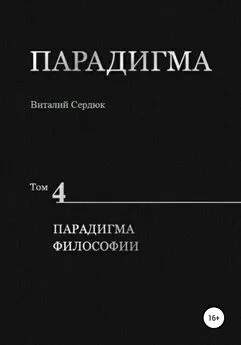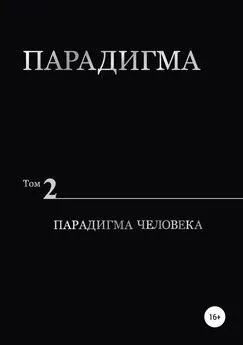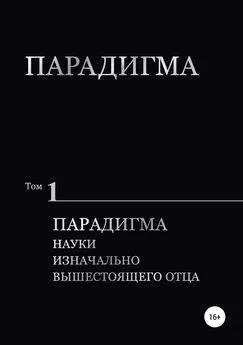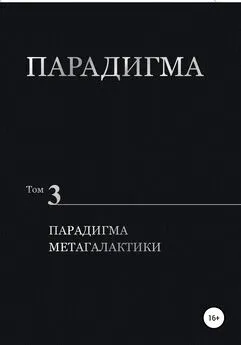Виталий Даренский - Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
- Название:Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-907030-14-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Даренский - Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века краткое содержание
Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Видовая специфика философского мышления состоит в том, что оно зачем-то осуществляет смысловую проблематизацию «жизненного мира» человека, т. е. базовых опытных данностей его бытия (и едва ли не в первую очередь – опыт самой «субъектности» мышления, собирающего «жизненный мира» в осмысляемое целое). Очевидно, что ни наука, ни «мудрость» ничем подобным не занимаются. Вопрос состоит в том, откуда у человека такая потребность, и почему она проявляется не у всех и не всегда, но в достаточно редких случаях? Ответ на эти вопросы вместе с тем и каким-то образом очерчивает некую инвариантную «природу» человека в качестве особого существа – существа философствующего. Вышеприведенные соображения позволяют предположить, уже само существование философии как особого вида мышления свидетельствует о том, что: 1) человек есть существо трансцендирующее (независимо от того, как и насколько он сам это сознает), поскольку способен и даже испытывает потребность выходить за рамки своего субъектного «жизненного» мира без какой-либо внешней на то причины; 2) с другой стороны, человек есть существо порабощенное – причем также не в силу каких-либо внешних причин (социальных и т. п.), но именно в качестве конституитивного свойства человека, намертво «прикипающего» к наличным условиям своего земного бытия и испытующего страх и абсолютную растерянность при первой же опасности их лишиться. Философия, очевидно, не может сама освободить человека, но она может сама указать на факт его онтологической порабощенности и воспитать в нем жажду освобождения, заставляя трансцендировать свое наличное бытие и сознание снова и снова.
В этом смысле философия представляет собой особую разновидность экспериментального знания , – однако, разумеется, «эксперимент» здесь совсем иного типа, чем в науке. Если в науке предмет эксперимента конституирован как совокупность объектов (даже интроспективный метод в психологии делает меня «объектом» собственного эксперимента), то в философии, наоборот, предметом экспериментирования становятся именно те измерения моего собственного бытия и бытия Универсума, которые принципиально не могут быть объективируемыми, но составляют базовые смысловые предпосылки понимания, а иногда и самого восприятия любых объектов. Соответственно, результат такого эксперимента определяется тем, расширяет ли та или иная философская концепция сферу моего универсального миро- и самопонимания, и саму «смыслосферу» моего самоопределения, – или же наоборот, суживает ее. Философская концепция, целостное учение или целая традиция становятся, таким образом, предметом своеобразного экзистенциального эксперимента, в котором задействована глубочайшая сущностная основа человеческого бытия и мышления, а не только отдельные перцептивные и когнитивные способности, как это имеет место в «частных» науках. В отличие от научной теории, в которой запрещены противоречия, настоящая философская теория, наоборот, всегда несет в себе элемент самоотрицания (который, впрочем, часто не осознается и самым ее автором), – и именно он всегда становится мощным фактором ее смысловой открытости, не позволяя сделать ошибочную подмену подлинной универсальности сущего иллюзорной «универсальностью» лишь отдельного человеческого ума, хотя бы и в самом деле гениального.
Сказанное непосредственно касается и понимания специфики личности человека, захваченного таким странным занятием, как «философствование» (особенно в «профессиональном» режиме). Философ отличается прежде всего особой предметностью и интенцией своей деятельности (которая, в свою очередь, не сводится только лишь к интеллектуальной сфере, но также включает в себя и определенные жизненные поступки и даже особый стиль жизни). Философствование о предельных реальностях «подлинного бытия» имеет и принципиальные предметные отличия от исследования особых сфер эмпирического сущего, которым занимаются специалисты различных наук.
Во-первых, здесь не просто каждый факт «нагружен теорией», как это имеет место в любой из наук, но, более того, факты как таковые формирует собственно, сама теория – они становятся ее непосредственными элементами. Это, с одной стороны, очень сильно повышает фактор субъективности самой теории, а с другой – именно благодаря этому! – позволяет включать в предмет познания такие реальности, которые не являются и в принципе не могут быть предметом эмпирического восприятия. Такие «предельные» предметности познания, как ум, любовь, свобода, бессмертие, Бог и даже материя (как единая всеобщность, а не простая совокупность вещей и процессов), не являются эмпирическими предметами мира объектов и конкретно открываются как предметность познания только в особом пространстве внутрисубъектного и межсубъектного опыта. Во-вторых, с другой стороны, сам интенциональный «выход» на предельные предметности познания всегда сопровождается неизбежным риском субъективизма, риском неосознанной «подмены» сверх-эмпирических реальностей собственными образованиями нашего сознания. В нефилософском мышлении неизбежно происходит органическое «сращивание» субъективных образований с предметностью высших смысловых реалий, вследствие которого восприятие последних приобретает искаженный, а иногда и откровенно фантастический характер. Конечно, и эмпирические науки в принципе не могут быть лишенными факта «включенности» субъектности исследователя не только в форму, но и в содержание познаваемого (в том числе и ценностных измерений его активности – на уровне «постнеклассической» рациональности), но тем не менее апеллирование к эмпирической данности объектов относится к конститутивным признакам научного познания как такового. Вместе с тем предметностью философского мышления являются такие «факты», которые никогда не имеют однозначной и безальтернативной корреляции с фактами эмпирического мира объектов, и потому любое философское учение так или иначе всегда дает возможность объяснять и осмысливать любые эмпирические факты, а поэтому и вполне удовлетворять собою определенный тип людей. Тем самым, философский субъективизм в принципе нельзя преодолеть никакими апеллированиями к эмпирической конкретике окружающего мира. Здесь должны существовать принципиально иные критерии значимости и эвристической силы отдельных концепций.
Поэтому, вообще говоря, смысловая мощность, экзистенциальная плодотворность и историческая жизнеспособность и любого отдельного философского учения, и целой философской традиции, независимо от их мировоззренческой ориентаций, всегда в первую очередь определяются тем, насколько им удается опосредовать предельный порыв разума к индивидуальным смыслам бытия постижением всеобщих смыслов Универсума; и наоборот – постижение всеобщих смыслов опосредовать экзистенцией смысла индивидуального бытия. Указанная специфика предметности философского мышления определяет и особый культурно-экзистенциальный статус работы философа, который также принципиально отличает его от представителя «частных» наук, который «автоматически» входит в ту исследовательскую парадигму своей науки, которая сложилась в соответствии с условиями времени и места, и в принципе не несет моральной ответственности за ее недостатки и ограниченность. Их преодоление – это дело гениев, и не касается остальных, чтобы не отвлекать их от конкретных проблем. Наоборот, в философии каждый несет непосредственную моральную и экзистенциальную ответственность за все недостатки той традиции, которую он избрал для себя как духовный и профессиональный ориентир. Конечно, эта традиция создана не им, и на нем не закончится, но все одно никакого «алиби» перед истиной бытия у философа быть не может. И это определено самой спецификой предмета и способа философского мышления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: