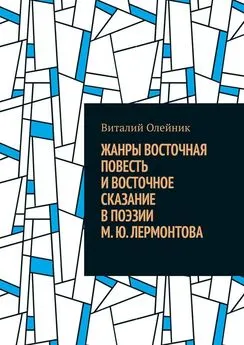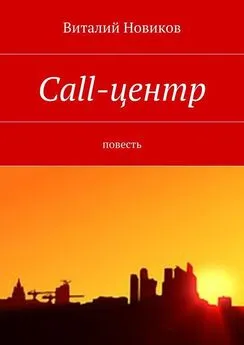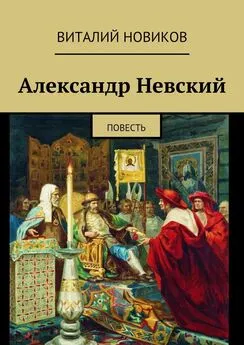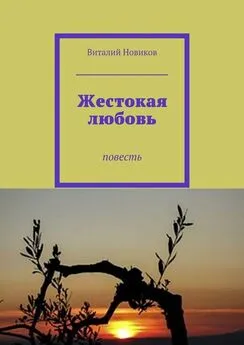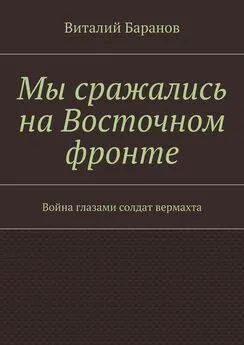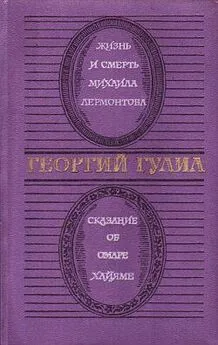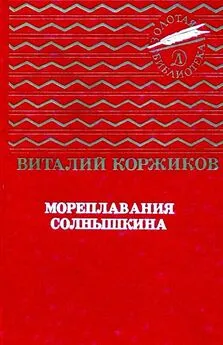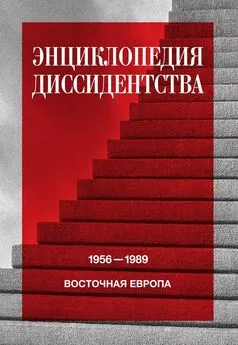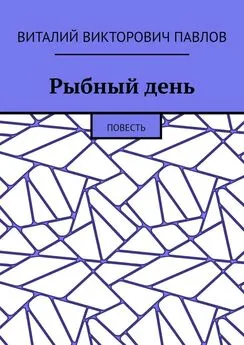Виталий Олейник - Жанры восточная повесть и восточное сказание в поэзии М. Ю. Лермонтова
- Название:Жанры восточная повесть и восточное сказание в поэзии М. Ю. Лермонтова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449809346
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Олейник - Жанры восточная повесть и восточное сказание в поэзии М. Ю. Лермонтова краткое содержание
Жанры восточная повесть и восточное сказание в поэзии М. Ю. Лермонтова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Экологическая проблематика, разумеется, далеко не главная в «Трех пальмах». Гораздо важнее для этой притчи тема экзистенционального самоощущения в мире, основанном на насилии. Описание упражнений арабского фариса с его смертоносным копьем отнюдь не случайно занимает целую строфу. Оно недвусмысленно указывает на то, что в этой реальности правит сила, что боевое искусство и право на насилие и есть тот фундамент, на котором в самом деле зиждились тогда, как, впрочем, и до сих пор почти все общественные отношения между людьми. Нежелание признавать эту неприглядную истину, ориентация на иные, нереальные, а то и вымышленные константы и ценности – на добро, на справедливость, на ответную благодарность, «на веру гордую в людей и в жизнь иную» – не что иное, как опасный, а подчас и гибельный самообман. Люди вечно недовольны своим существованием в настоящем, даже если Господом была уготована им вполне безбедная и не очень трудная жизнь. Они постоянно ропщут и изо всех сил стремятся улучшать свое положение. Но, как говорили мудрецы: «Бойтесь желаний, они исполнимы». Только приводят эти желания отнюдь не к тем результатам, на которые мы неосмотрительно рассчитываем. Пальмы, как засидевшиеся невесты, радостно встречают караван. Однако вместо долгожданных женихов они сталкиваются с равнодушными, эгоистичными и жестокими первыми встречными, готовыми на халяву воспользоваться их благосклонностью, не испытывая при этом ни малейшего чувства благодарности.
Причем это жестокое изнасилование и истязание отнюдь не несчастный случай. Это – совершенно естественный ход событий в мире, исковерканном и изгаженном первородным грехом. Все высокие идеалы служения обществу и людям в наших условиях существования – благодушный и крайне наивный бред. Обратите внимание на роль «малых детей», с готовностью участвующих в процессе истребления пальм. Страсть к разрушению они впитали даже не с молоком своих матерей. Она заложена в самих генах совращенного, отпавшего от Всевышнего человека. В те времена, когда владение оружием требовало определенной подготовки, а также нужного уровня физической силы, жестокость детей не казалась столь уж неоспоримой истиной. Но сейчас, когда автоматическое стрелковое оружие стало доступным даже подросткам, тысячи и тысячи случаев доказывают, что дети могут быть беспощаднее самих взрослых. Естественная для них жестокость сплошь и рядом превращается в подлинную свирепость, поскольку они вообще не способны еще осознавать чужую боль. Лермонтов воистину мудр, прозорлив и честен. И, слава Богу, что составители учебников по родной речи и по русской литературе в течение второй половины ХIХ и всего ХХ века попросту не поняли смысла «Трех пальм». Они, как заведенные, включали эту чрезвычайно сложную и весьма крамольную притчу в корпус хрестоматий для школьного чтения, наряду с «Родиной», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива», «Пророком», «Умирающим гладиатором», «Парусом», «Ангелом» и «Веткой Палестины». В советский период, разумеется, этот список пополнился бунтарскими «Мцыри» и «Смертью поэта».
Уровень изученности этого знаменитого произведения Лермонтова устанавливается довольно просто. Дело в том, что в стихотворении имеется слово, которое, как меченый атом или как кольцо на птице, способно выполнять роль исследовательского маркера. Введем в поисковый запрос слово «фарис», и компьютер выдает в качестве его источника текст именно «Трех пальм»: «И белой одежды красивые складки / По плечам фариса вились в беспорядке». То есть, ни до, ни после Лермонтова это слово в русской письменности вообще до сих пор не употреблялось. И вполне понятно, что это объясняется тем, что данное словоупотребление так и осталось «темным» и для читателей, и для самих историков литературы.
Разумеется, это – факт просто вопиющий. Действительно, невозможно себе даже вообразить, чтобы итальянцы что-то там не поняли в лексике Данте или Петрарки, испанцы – в произведениях Сервантеса, Кальдерона или Лопе де Вега, англичане – в текстах Шекспира, Донна или Мильтона, немцы – в сочинениях Гете или Шиллера. А у нас, как оказалось, пожалуйста. Лермонтов – несомненно, один из величайших поэтов России – остается, фактически, не совсем прочитанным.
Случайность? Едва ли. То, что с этим словом не все в порядке, догадались, безусловно, и составители энциклопедии. Работая над алфавитно-частотным словарем языка Лермонтова, они решили выйти из затруднения, написав слово с большой буквы. Получилось вроде бы имя собственное: Фарис (С. 760). И объяснять ничего не нужно. Кроме того, что в самом тексте стихотворения слово почему-то сохранило прописную букву. Конечно, с научной точки зрения это – не просто хитроумная уловка, а элементарная фальсификация, явное мошенничество. Вместо аутентичного текста нам косвенно предлагается примитивная подделка. Поэт такого уровня, как Лермонтов, не мог в данном случае величать совершенно незнакомую нам личность каким бы то ни было именем собственным.
Разумеется, соображения такта и уважение к предшественникам, по идее, должны были бы снизить градус нашего недоумения, а, тем более, возмущения. Людям свойственно ошибаться. Но в том-то и дело, что этот казус, как и многие другие просчеты с Лермонтовым, есть не столько следствие персональных ошибок конкретных исследователей, сколько проявление общей тенденции – массовой недооценки творчества нашего гения. Если бы все русские поэты были прочитаны столь же небрежно, как Лермонтов, то, действительно, не стоило бы ломать копья. Но ведь Пушкин, например, местами вылизан чуть ли не до кости. Отчего же к Лермонтову такое внутреннее пренебрежение? Как выясняется со временем, совершенно прав был Н. И. Либан, неоднократно утверждавший, что Лермонтова недостаточно как следует изучить, что его сначала необходимо в полном смысле слова реабилитировать: «Моя мысль – оправдание его ожесточения, оправдание в тех л о ж н ы х о ц е н к а х, которые к нему приросли, его реабилитация» (Сборник трудов памяти Н. И. Либана: М.: Круг, 2015. С. 404).
Вернемся, впрочем, к «фарису». Имеются все основания полагать, что это слово арабское и означает оно не что иное, как «всадник, наездник; витязь». По-арабски «фара» – конь, лошадь. У нас есть данные, что Лермонтов одно время изучал азербайджанский язык. К тексту «Демона» поэт лично прокомментировал целый ряд грузинских слов. Но никакими сведениями о его познаниях в области арабского языка мы не располагаем, хотя едва ли стоит утверждать, что Лермонтов с его способностью к языкам арабского вообще не знал. «Три пальмы» конкретно свидетельствуют об обратном. Гадание на кофейной гуще, конечно, дело крайне неблагодарное. Поэтому никаких предположений по поводу уровня владения Лермонтовым арабским языком мы делать не будем. Однако, та естественность и уместность, с которыми Михаил Юрьевич применяет неизвестное русскому читателю арабское слово, заставляют усомниться в том, что образ «песчаных степей» в «Трех пальмах» носит исключительно декоративный, чисто условный, книжный характер. А ведь именно это и старались внушить читателям литературоведы советского периода: «Роковое свершение в «Трех пальмах» протекает в условных пределах «аравийской земли» ( условность оговорена подзаголовком «Восточное сказание») (ЛЭ. С. 579). И даже признавая «географическую и этнографическую точность» повествования, В. Н. Турбин в целом оценил это произведение как «стилизацию», т.е. как нечто сугубо вторичное, даже если и не совсем подражательное (там же).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: