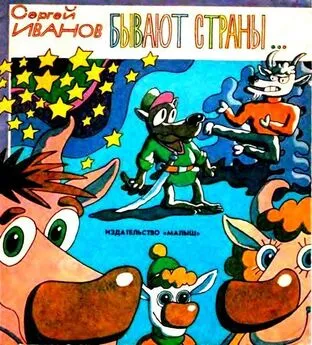Сергей Хоружий - «Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор как предтечи антропологии размыкания
- Название:«Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор как предтечи антропологии размыкания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хоружий - «Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор как предтечи антропологии размыкания краткое содержание
Сегодняшняя культура и наука по-новому складывают все пасьянсы, контексты, конфигурации эпох и традиций, дискурсов и дисциплин. Довольно давно уже в сфере гуманитарного знания настало «время разрывов», старые классические парадигмы познания... оказались разрушены или отброшены. Некое время многие даже полагали, что это разрушение окончательно, и что отброшено будет бесповоротно само основоустройство познания и философствования...Но ход вещей не подтвердил этого. ...всё более определенно она обращается к поискам «другого начала».
Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H
«Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор как предтечи антропологии размыкания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот кардинальный факт вытекает из тесной связи конституции человека как такового с предельными антропологическими проявлениями – такими, в которых начинают изменяться определяющие предикаты, характеризующие горизонт сознания и существования человека.
Именно в предельных проявлениях осуществляется размыкание человека навстречу «антропологически Другому», ибо последний, по определению, не располагается в указанном горизонте. Анализ предельного антропологического опыта позволяет выяснить [3] 1 См., например: С.С.Хоружий. Человек: сущее, трояко размыкающее себя // Он же. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С.13-57.
, что существует всего три вида предельных антропологических проявлений. Один из них отвечает духовным практикам: в них человек выстраивает и осуществляет преобразование себя («практику себя», в терминологии М.Фуко), ориентированное к иному образу бытия, к изменению своего онтологического статуса, онтологическому трансцендированию.
Соответственно, здесь осуществляется онтологическое размыкание, или размыкание человека в бытии; и человек конституируется в нем как сущее, репрезентирующее определенный образ бытия. Другой класс предельных антропологических проявлений не предполагает «онтологического различия» (ontologische Differenz, Хайдеггер) между сущим и бытием. В этих проявлениях человек размыкает себя, оставаясь в горизонте сущего и не актуализуя отношения к бытию. Основной пример таких проявлений – размыкание навстречу бессознательному. В наших терминах, бессознательное выступает как «антропологически Другой» по отношению к человеку как обладателю сознания; и будучи, по определению, вне горизонта сознания, бессознательное в то же время остается в горизонте сущего; с ним не ассоциируется какого-либо иного, отличного образа или модуса бытия. И наконец, еще один класс предельных антропологических проявлений реализуется в выходах человека в виртуальную реальность, феноменах антропологической виртуализации.
Основополагающее отличие виртуальных феноменов от феноменов актуальной реальности заключается в неполноте их актуализации: для каждого из таких феноменов существует некоторый актуальный феномен, от которого он отличается отсутствием каких-либо его определяющих предикатов (аналогично тому как в квантовой физике виртуальные частицы отличаются от реальных). Виртуальные антропологические практики – быстро и усиленно расширяющийся род практик, который занимает все большее место в современной антропологической реальности. Размыкание человека, которое осуществляется в них, носит «привативный» характер: человек в виртуальных практиках разомкнут в том смысле, что он не полностью актуализован, и его проявления предельны в том смысле, что они не принадлежат к сфере обычных, актуальных антропологических проявлений, образующих горизонт (актуального) существования человека.
Размыкание в бытии, размыкание в сущем и размыкание в выходе в виртуальную реальность – эти три вида антропологического размыкания исчерпывают все классы предельных антропологических проявлений; не особенно сложное рассуждение, демонстрирующее этот факт, проводится нами в указанной работе. Всю совокупность предельных антропологических проявлений мы называем Антропологической Границей, и каждый из трех классов этих проявлений рассматривается как область данной границы; три области получают название топик – соответственно, Онтологической, Онтической и Виртуальной. Каждой из этих топик соответствует определенная (неклассическая) парадигма конституции человека как такового (что то же, неучастняющей, общеантропологической конституции). Но конституция человека как такового формируется только в предельных антропологических проявлениях, и потому три парадигмы, порождаемые тремя видами размыкания, исчерпывают все существующие способы неучастняющей конституции человека. В итоге, размыкание человека в его предельных проявлениях выступает как общий и единственный механизм конституции человека как такового, и человек в нашем описании представляется как «сущее, трояко размыкающее себя» [4] 1 Заметим, что формула «сущее, размыкающее себя» могла бы относиться и к биологической конституции, поскольку все живое точно так же конституируется в размыкании; однако в этой сфере конституция принимает лишь зачаточную, несравнимо обедненную форму, не включая в себя ни структур идентичности, ни, разумеется, размыкания в бытии.
. Это означает, что данное описание доставляет основу, порождающее ядро некоторого цельного антропологического подхода, охватывающего, вообще говоря, всю целокупную антропологическую реальность,. Мы называем этот подход антропологией размыкания, или синергийной антропологией, ввиду его генетической связи с парадигмой синергии.
Поскольку каждый из способов размыкания охарактеризован достаточно конструктивно посредством определенных антропологических практик, синергийная антропология возникает как рабочее, работающее описание антропологической реальности, дающее возможность исследования структуры ее феноменов и процессов. Вслед за представленным построением концептуальных оснований синергийной антропологии, мы возвращаемся к этим феноменам и процессам: от опыта к рассуждению и затем вновь к опыту – такова логическая стратегия развития нашего подхода: стратегия своего рода эпистемологического восхождения. Сегодня на его базе уже изучался и изучается широкий спектр антропологических явлений и проблем – в первую очередь, в сфере актуальных антропологических трендов современности.
Наша беглая характеристика синергийной антропологии легко могла создать впечатление, что это – сугубо современное направление, использующее лишь опыт исихазма и духовных практик Востока, лишенное корней и связей в философской и богословской мысли и в особенности чуждое традиции западной философии. Но это впечатление было бы поспешным. Парадигма размыкания имеет богатую историю, в которой имеются и важные философские страницы. Эта история отличается разнообразием и неожиданными соседствами, она никогда не прослеживалась прежде, и нам непременно следует отметить ее основные вехи.
Несомненно, самые ранние примеры «дискурсов размыкания» были развиты в духовных практиках. Разумеется, здесь это были большей частью чисто практические, операциональные дискурсы; но в силу необходимости строгого и полного метода в духовных практиках, крупнейшие учители этих практик стремились достичь и углубленного аналитического видения и закрепления их опыта – и в их трактатах мы находим первые выражения парадигмы размыкания. Так обстоит уже с древнейшею практикой – с классической йогой, как она представлена в «Йога-сутрах» Патанджали (не позднее III в.н.э.). Вот две сутры из Второго раздела, «Способы осуществления йоги». «44. В результате самообучения [возникает] связь с наставляющим божеством. Боги, риши и сиддхи входят в поле зрения [йогина] ... и принимают участие в его работе. 45. Благодаря упованию на Ишвару, [обретается] совершенство в йогическом сосредоточении. Тот, кто посвятил все свое существование Ишваре, [обретает] совершенство в йогическом сосредоточении, благодаря которому он безошибочно познает все что захочет, [даже если оно находится] в другом месте и другом времени... его мудрости открыто все так как оно существует в действительности» [5] 1 Классическая йога. М., 1992. С.143. Курсивом в цитате – текст сутр, прямым шрифтом – комментарий Вьясы.
. В системе Патанджали, Ишвара, или «особый Пуруша», обозначаемый священным слогом Ом, есть воплощение абсолютного знания, могущества и совершенства. «Упование на Ишвару», требуемое от йогина, – это, по Патанджали-Вьясе, страстное, безраздельное, экстатическое устремление к нему; и коль скоро Ишвара, в наших терминах, заведомо не принадлежит горизонту эмпирического бытия, такое устремление относится к предельным антропологическим проявлениям – именно, к тем, в которых человек размыкает себя в бытии. Таким образом, «связь с божеством», возникающая в практике, может рассматриваться как репрезентация парадигмы синергии, или онтологического размыкания человека (хотя надо подчеркнуть, что о «синергии» здесь можно говорить лишь в обобщенно-расширительном смысле, когда этот термин, в отличие от своего исходного смысла в христианском дискурсе, не ассоциируется с началами личности и общения). Стоит еще заметить, что мотивы размыкания, открытости, синергии глубоко проникают весь дискурс классической йоги Патанджали, связываясь уже с самим его именем. Разнообразные легенды о происхождении Патанджали едины в своей основе: на молитвенно раскрытые ладони мудреца опускается змей Шеша – Ананта, символ бесконечности; и имя Патанджали толкуется как сочетание слов санскрита «падать» (пат) и «ладонь» (анджали). Раскрытая ладонь – древнейший символ и жест открытости, размыкания человека. И в свете этого, обратим внимание: учитель, что представил учение другой практики бытийного размыкания, исихазма, также носит имя «ладонь»: по-гречески, палама.
Интервал:
Закладка: