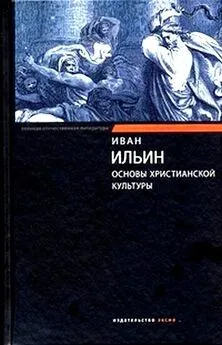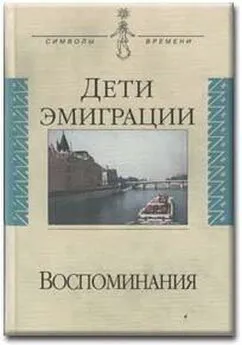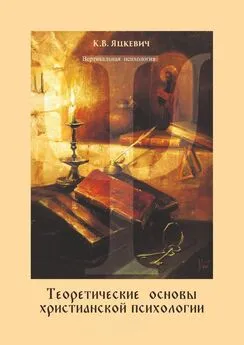Василий Зеньковский - Основы христианской философии
- Название:Основы христианской философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Зеньковский - Основы христианской философии краткое содержание
Книга В.В.Зеньковского - одного из крупнейших русских философов и богословов первой половины XX в. Его труды в области философии, богословия, психологии и педагогики оставили заметный след в русской культуре.
Настоящее издание включает в себя две работы Зеньковского - "Основы христианской философии" и "Апологетика". Первая книга выходила в России очень малым тиражом, а вторая не издавалась вообще.
Основы христианской философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. Чтобы разобраться в современных анализах разума и опыта, выделим прежде всего понятие «первичной рационализации» опыта силами нашего разума. Все, что заключает в себе характерные черты рациональности (простые различения в составе опыта, легко фиксируемые даже у детей при изучении процессов абстракции,— устранение явных противоречий, тем более выделение в составе опыта различных «групп», т. е. начала классификации), вообще все, что вмещается в понятие «структуры», которую мы находим (или, по выражению Авенариуса, «преднаходим») в восприятиях — все это мы можем относить к первичной рационализации. Это в подлинном смысле рационализация , так как все дальнейшие логические операции над материалом опыта (о чем так хорошо писал еще Гербарт) являются лишь продолжением или завершением тех особенностей материала, которые мы изначала находим в восприятиях. Все то, что поддается дальнейшей рационализации, может быть поэтому подведено под понятие «первичной рационализации»; то же, что в качестве «нерастворимого» остатка не попадает сюда, уже бесспорно принадлежит к составу «чистого опыта». Мы только никак не можем думать, что первичная рационализация как-то извне приходит к этому «нерастворимому остатку» — для этого нет решительно никаких данных. Позволю себе привести свою формулу, развитую мной в цитированной уже моей ранней работе: восприятия не пассивны, а реактивны , т. е. они возникают в субъекте познания как его живая «реакция» на «воздействия извне». Последние слова, конечно, никак нельзя истолковывать в смысле того «аффицирования» со стороны «вещей в себе», о котором говорил Кант: как много раз было указано (в русской литературе ярче всех Лосским в его работе об интуитивизме), все построение Канта основано на таком раздвижении предмета познания от самого объекта познания, которое ведет к неразрешимым трудностям [17] Как невозможно отодвигать объект познания от субъекта, так невозможно и слишком их сближать.
.
Итак, будем называть «первичной рационализацией» все то в составе материала познания, что, допуская дальнейшую рационализацию, тем самым свидетельствует о наличности этой рационализации в начальных стадиях восприятия.
Усваивая этому материалу понятие «рационализации», мы делаем это для того, чтобы подчеркнуть, что работа «разума» наличествует уже в самом исходном материале познания . Этими словами мы никак не связываем себя ни с чистым психологизмом, ни с гносеологическим индивидуализмом: мы ведь берем пока понятие разума в том расплывчатом смысле, в том его объеме, который соответствует обычному словоупотреблению. Иначе говоря, пока мы вовсе не замыкаем понятие разума в границы индивидуального сознания (чем и страхуем себя от всяких видов гносеологического индивидуализма), а следовательно, освобождаем себя и от психологического анализа того, как проявляется эта «первичная рационализация». Происходит ли она за порогом сознания? Не является ли само сознание тех или иных структурных моментов в восприятии связанным уже с моментами рациональности? Все это очень важно (и, конечно, очень ответственно) в онтологии познания — и нам непременно придется вернуться к этому вопросу в дальнейшем,— но сейчас, когда мы хотим установить разные функции разума, для нас это и не нужно и даже опасно.
3. Возвращаясь к понятию первичной рационализации, спросим себя, как мы можем отграничить ее от тех дальнейших процессов рационализации, которые протекают уже в полном свете сознания и часто являются предметом интеллектуальных усилий? Достаточно напомнить о так называемой «апперцепции» (беря это понятие в истолковании Гербарта, чем, конечно, не исключается и все то, что внес сюда Вундт в идее «творческой активности»), чтобы сразу стать перед фактом, что восприятие живет в нашем сознании, обогащаясь, расчленяясь, соединяясь с новым для него материалом.
Эта жизнь восприятия в нашем сознании есть уже познавательная наша активность , в которой принимает участие «вся душа». Без особых оговорок можно принять при этом и все то, что говорил Бергсон, который в «интеллектуализации» непосредственного опыта усматривал существенное искажение материала. Таково знаменитое его различение (во многом, хотя и не до конца, оправданное дальнейшими анализами других мыслителей) двух понятий времени — одно понятие раскрывается нам в непосредственном опыте, другое является продуктом интеллектуализации этого опыта в перенесении пространственной схемы в переживание времени. В современной философии, особенно со времени Гуссерля, стало даже модным то верное наблюдение, что в составе нашего познания есть некая двусмысленная «текучесть», требующая во всех частях опыта разграничения «непосредственно» данного от того, что возникает в порядке «первичной рационализации» [18] В русской литературе с большой глубиной анализировал различную значимость двух аспектов в исходном материале познания А. А. Козлов. См. о нем в моей «Истории русской философии» (Т. II, ч. II, гл. VII).
. Упражнения в «феноменологической редукции», приведшие к большой разноголосице в современной философии, по существу, не могут быть, конечно, отвергаемы; беда только в том, что они часто впадают в «дурную бесконечность», «не пользующую ни мало». Само же по себе различение «исходного» и «производного», различение «простого» и «сложного» очень важно и плодотворно. Однако при всей значительности того, что нам дает это различение, мы в нем не выходим за пределы первичной рационализации — в силу существенной психологической однородности всей той работы духа, которая начинается уже за порогом сознания, и той, которая затем имеет место при свете сознания. Конечно, психологическая однородность этих различных фаз в работе нашего духа в актах познания не должна закрывать от нас бесспорной гносеологической неоднородности их. Так, даже не принимая до конца построения Бергсона о двух понятиях времени (из которых каждое восходит к опыту в разных его фазах — непосредственного и уже интеллектуализированного), мы не можем отвергнуть гносеологического различия этих двух понятий. Или когда утверждают — и не без основания,— что в итоге рационализации нашего опыта не только испаряется живое благоухание бытия (как оно дано нам в непосредственном опыте), но и самое содержание опыта беднеет, сжимается, а порой и «развеществляется», то все это верно. Гносеологическая значимость того, что открывается нам в итоге первичной рационализации, бесспорна, но бесспорно и то, что все дальнейшие моменты в «истории» нашей познавательной работы с достаточным основанием укладываются в понятие «первичной рационализации».
Интервал:
Закладка: