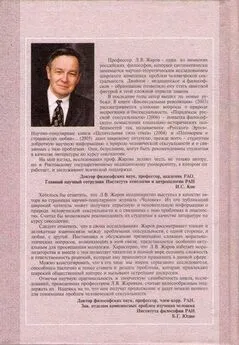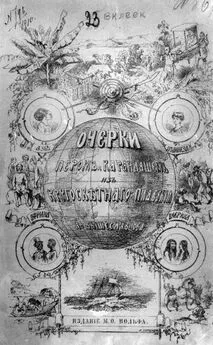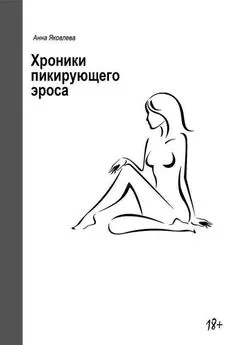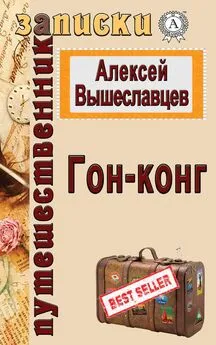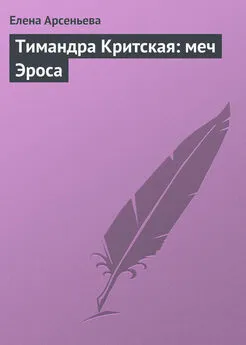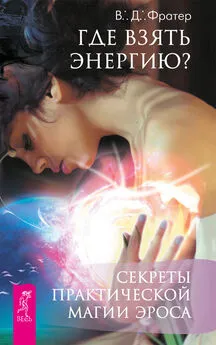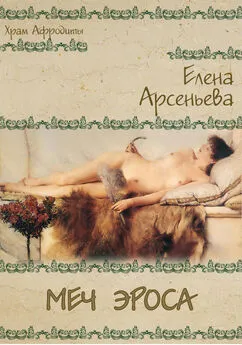Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса
- Название:Этика Преображенного Эроса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса краткое содержание
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. К.
ЭТИКА ПРЕОБРАЖЕННОГО ЭРОСА
Этика Преображенного Эроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На христианском языке: души (точнее, духа) — и Бога.
119
чудо философии, чудо самосознания, чудо транса ???? ?? ?????? 21.
Тот никогда не поймет, что такое феноменологическая редукция, кто будет искать ответа только в «феноменологической» школе. Замечательно, что все ученики Гуссерля по–своему истолковывают редукцию: иначе ее понимает Шеллер, иначе Гартман, иначе Гейдеггер. И это именно потому, что она есть фокус философии, где совпадают и где расходятся все индивидуальные лучи; исходная точка отправления, где расходятся философские направления.
Сказать: мир есть только явление — значит произвести феноменологическую редукцию; даже просто сказать: явление, феномен (?????????? ??? ??????????) 22, nur Erscheinung, apparance 23— уже значит мыслить, исходя из феноменологической редукции. Именно так мыслят Упанишады, впервые дающие грандиозную феноменологическую редукцию мира и глубочайшую, доселе не превзойденную интуицию ego. Миф Платона о пещере 24есть художественный символ феноменологической редукции, бесконечно богатый философскими и мистическими возможностями. Что Платон, Декарт и Кант производят прежде всего феноменологическую редукцию, этого, конечно, ни Гуссерль, ни феноменологи отрицать не хотят. Напротив, они устанавливают свою связь с платонизмом. Чтобы правильно их понять, нужно именно так широко раздвинуть историко–философскую перспективу. Всякий провинциализм школы вредит пониманию.
7. ТРАНСЦЕНЗУС КАК СУЩНОСТЬ РЕДУКЦИИ
К каким бы результатам ни вела феноменологическая редукция, какое бы философское здание на ней ни воздвигалось, как бы различно она в этом смысле ни истолковывалась, все же в основе ее лежит одна и та же операция: транс, трансцензус, ????, выход за пределы всего мира явлений, выход из «пещеры» Платона, поднятие над полем явлений того, кто «обозревает поле».
Причем необходимо понять, что только этот транс делает явления «только явлениями», nur Erscheinungen. Для того, кто этот «транс» совершить не может или не хочет, для того нет никаких «явлений» и «феноменов», а существуют только вещи, и мир вещей, и он сам, как «вещь между вещами». Кант называет это точкой зрения «наивного реализма»; Гуссерль — точкой зрения натурального мировоззрения (naturliche Weltansicht), в котором живет всякий человек и даже ученый, пока он не философствует.
Философия начинается с транса, с выхода ???? ?? ??????. Без этого нет философии, а есть только физика в широком смысле. Всякая подлинная философия есть метафизика.
Но для того, кто совершает этот транс, весь мир, все, что лежит в его поле зрения (внешнего или внутреннего), — редуцируется до степени явлений, и только явлений. Почему и откуда это
120
«только»? А потому, что в своем трансцензусе он узнал иное бытие, иную «точку зрения», иное измерение, в которое он сумел подняться. И теперь весь мир феноменов ему представляется как низшее измерение, как первое измерение, как пространственно–временной мир, обозреваемый его сознанием. Теперь, обозревая этот мир в целом, выйдя за его пределы, можно спросить, откуда он и зачем, имеет ли он смысл, реален ли он? Весь этот мир явлений ставится «под вопрос» и делается объектом сомнения, берется в кавычки. Явление именно и означает то, что несомненно является нам, что дано нам, но что сомнительно в своем реальном смысле и значении. Спросить об этом смысле и значении — значит выйти за пределы явления, спросить о том, что скрывается за ним. То, что философы встречают и открывают при помощи своего транса, может быть весьма различным, но самый транс, как исходный момент феноменологической редукции, остается в существе тем же самым. Если индусы, выходя за предел мира явлений, встречают вечного и «нестареющего» атмана–брахмана; если Платон, выходя за пределы явлений, встречает эйдосы, мир идей; если Кант, выходя за пределы явлений, встречает посредством своего транса «трансцендентальные» категории и «трансцендентные» вещи в себе; если Гуссерль, выходя за пределы явлений, встречает идеальный мир эйдосов (смыслов и сущностей) и еще встречает ego, самоочевидное и самодостаточное сознание, — то нельзя отрицать, что в основе всех этих философских операций лежит один и тот же первый шаг выхода за пределы пространственно–временного мира явлений, один и тот же неизбежный транс. Начало феноменологической редукции остается одним и тем же; но и ее результаты, ее достижения, не так уж различны у разных философов: самоочевидное ego Декарта и Гуссерля во всем существенном было предвосхищено и найдено индусами. Идеальный мир эйдосов был открыт Платоном, Кантом и Гуссерлем.
8. ЧТО ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИИ?
Все же из феноменологической редукции могут вытекать очень различные результаты: явления можно редуцировать до степени иллюзии, и тогда мы получим индийский иллюзионизм (вошедший, впрочем, и в европейскую философию) с его идеей «майи»; но можно их редуцировать лишь до степени реальной данности, Dasein 25, несомненной в своей наличности, до степени phenomena bene fundata, как это преимущественно делает евро-
* Для нее остается характерным утверждение, что всякая иллюзия, всякое сновидение, всякое заблуждение, всякий «обман чувств» есть несомненная наличность, реальность своего рода, несомненно фундированная как–то (хотя бы мы еще не знали как) в истинном, абсолютном бытии. Это впервые высказал со всею силою Августин, давший отчетливую формулировку феноменологической редукции, с его замечательным примером «феномена» весла, переломленного в воде.
121
Далее, редукцию можно вести в сторону универсальной сомнительности явлений, из которой не существует транса (безвыходной сомнительности), как это делает античный скепсис, но ее можно вести и в сторону «универсального сомнения» для нахождения трансцендентной истины, как это делает Августин, Декарт и за ними Гуссерль.
Наконец, редукцию можно вести в сторону солипсизма 26, субъективного идеализма, имманентной школы 27, вводя все явления dans le cercle de ma conscience 28(выражение Декарта), как это делает ранний Фихте и Шеллинг, Шопенгауэр и индийский идеализм. Но можно вести ее и в сторону онтологического реализма, который заложен в Кантовой вещи в себе, как это делает Николай Гартман.
Все здесь зависит не от самой редукции, а от того, что нам удается узреть за пределами поля явлений, в «метафизическом» поле зрения. Здесь открывается новое измерение бытия, новая сфера исследования, новая сфера достоверного и, быть может, самого достоверного знания. Гуссерлю удалось это показать с величайшею силою. Но что он узрел в этом новом измерении, в этом своем трансе? Что он узрел в этом cogito? (Одним этим декартовым термином он фиксирует новое измерение, новую «точку зрения».) Он узрел царство смыслов и сущностей, интуитивно–достоверных, вечных и непреходящих. Это несомненно новая сфера точного знания, которую открывает транс феноменологической редукции. Кант назвал ее трансцендентальной, ибо хотя она поднимается над явлениями, но существует как бы только ради явлений и их понимания. Это вечные и непреходящие лучи, весь смысл которых только в том, чтобы освещать поле явлений, понимать пространственно–временной мир. Но Гуссерль в этом своем cogito узрел и нечто иное, принципиально отличное от всех смыслов, эйдосов и категорий; узрел вслед за Декартом: ego cogitons. Он заметил таинственную сущность, абсолютоподобность этого ego. Оно есть центр всего, все озаряющий своими «интенциональными» лучами (лучами сознания). Оно самоочевидно и самодостаточно (не нуждается ни в чем ином); оно доказывается онтологическим аргументом: идея Я есть реальность Я, понять, что такое Я, сознать себя — значит узреть свое несомненное бытие (cogito ergo sum) 29, смысл и реальность, essentia и existentia 30здесь совпадают, как они совпадают в Боге, в Абсолютном. Ego — абсолютоподобно. Не есть ли оно просто Абсолютное? Ответа на этот вопрос Гуссерль не дает, ибо он не ставит проблему Абсолютного. В этом роковая недоговоренность его феноменологии *. Если Я есть Абсолютное, то мы получаем чистый идеализм и имманентизм в духе раннего Фихте (который может быть обвинен в человекобожеском «атеизме»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: