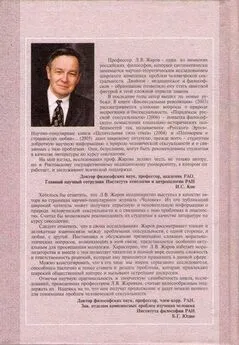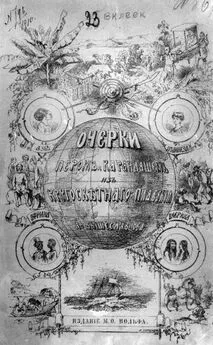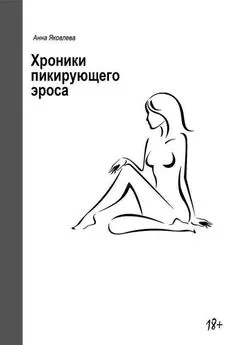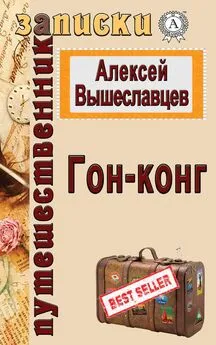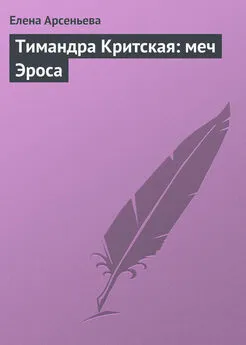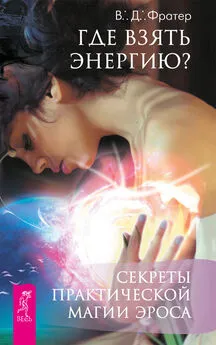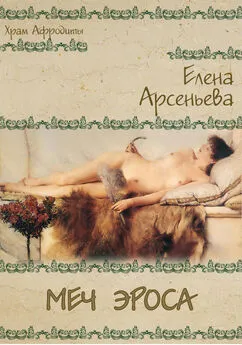Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса
- Название:Этика Преображенного Эроса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса краткое содержание
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. К.
ЭТИКА ПРЕОБРАЖЕННОГО ЭРОСА
Этика Преображенного Эроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. СВЯТОСТЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Сблимация совершается при помощи ценностей, но ценности бывают высшие и низшие; сублимировать в настоящем смысле могут, очевидно, лишь высшие ценности. Существует иерархия
114
ценностей и, следовательно, абсолютно высшая ценность, вершина иерархических ступеней. Такой предельно высшей ценностью является святость, святыня. Святая воля стоит выше, чем добрая воля; хотя она необходимо вместе с тем добра. Святое творчество стоит выше, чем прекрасное творчество; хотя оно необходимо вместе с тем прекрасно. Но абсолютная святость и абсолютная святыня есть Бог, «Святый Израилев» *. Таинственное веяние святости есть чувство присутствия Абсолютного (в его аксиологическом аспекте), трепет изумления и восхищения, mysterium tremendum 6(Рудольф Отто). Без такого прикосновения к высшему аксиологическому пределу **, к святости — нет предельной сублимации.
Но святостью может обладать только личность, а не вещь; только субъект, а не объект. Вещи и объекты могут быть «священными», но не святыми. И священными они являются через свое отношение к высшей, любимой личности: когда сотворены ею, изображают ее, принадлежат ей. Святость составляет вершину ценностей, а потому она может принадлежать только тому, что имеет право стоять на этой вершине. Но таким достоинством и «честью» обладает только личность; все безличное, как–то: вещи, блага, идеи, нормы — стоит ниже в иерархии ценностей, чем личность. Мы разумеем здесь живую конкретную личность, а не идею личности. Все идеально–отвлеченное неполноценно; только идеально–конкретное, живое, укорененное в бытии — полноценно. Вот почему высшая святыня, «Святый Израилев», есть личный Бог, а не безличный, живой Бог, а не идея Бога. Безличный Бог стоял бы ниже, а не выше человека ***.
3. ИДЕЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖЕСТВА
Человек приписывает себе преимущественное достоинство и честь во всем ему известном, сотворенном мире. Это есть самоочевидное суждение оценки: человеческая личность ценнее животных, растений, минералов, элементов. Почему не поставить человеческую личность на вершине всей иерархии ценностей? Почему не признать ее высшей святыней, раз она может обладать святостью? Почему не признать человека единственным известным нам Богом, раз он обладает полноценным свойством быть живой конкретной личностью? Такая мысль возникает с диалектической необходимостью и приводит к «религии человечества», к единственной возможной форме атеистической этики, иначе говоря, атеистической иерархии ценностей. Она мыслима в двоякой форме: или единственная ценность и святыня для меня есть
* «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф» 4… «Никто не благ, как только один Бог» 5.
** Таков смысл слов: Иже еси на небесех 7.
*** Такова абсолютная субстанция Спинозы, таков абсолютный «океан» индусов: он обладает всепоглощающей мощью, но не обладает честью и достоинством человека.
115
мое живое конкретное «я» — все остальное ниже его и ему подчинено (Макс Штирнер); или единственная ценность и святыня есть «человечество», «коллектив», «пролетариат» (Фейербах, Маркс). Изживание этой диалектики в грандиозных размерах показано Достоевским, и она продолжает изживаться современным человечеством.
4. АКСИОМА ЗАВИСИМОСТИ. ДЕКАРТ
Почему же нельзя объявить человека Богом? Ответ прост и очевиден: потому что человек не абсолютен. Я нахожу себя, как относительное, конечное, несовершенное, зависимое существо. В этом состоит аксиома зависимости, лежащая в основе религии. Самосознание самоочевидно; оно есть последняя опора всякой достоверности, как это было установлено Августином, Декартом и Фихте. Но самосознание, ego, не самодостаточно. Мне очевидна моя недостаточность, моя зависимость; ее я мыслю, чувствую, актуально переживаю. Но это значит, что я мыслю, чувствую и переживаю то, от чего я завишу. Я дан себе не один, а вместе с каким–то другим, я дан себе в противосостоянии, в противоположении. Но «недостаточному» противостоит полнота, конечному противостоит бесконечное, несовершенному — совершенное, зависимому — независимое, относительному — абсолютное. Одно без другого немыслимо и непереживаемо. Ego (я) находит себя только в противопоставлении Абсолютному, только в Нем «мы движемся и есьмы».
Такова основная интуиция Декарта. В своих «Медитациях» он делает попытку рационально формулировать центральную мистическую интуицию, как это делали до него Августин и Бонавентура. Последний показывает, что самосознание возможно лишь в противостоянии Богу. Человек переживает, сознает и мыслит себя не иначе как e ряде основных противопоставлений, в основе которых лежит противопоставление несовершенного и совершенного, относительного и абсолютного *.
Декарт правильно нашел аксиому зависимости как аксиому религии:
«Je connais ?videment, que je depends de quelque ?tre diff?rent de moi» (Med. III).
«Lorsque je consid?re que je doute, c'est–?–dire que je suis une chose imcompl?te et d?pendante, l'id?e, d'un ?tre complet et ind?pen-
* Бснавентура дает таблицу основных противоположностей (De mysterie trinitatis et Itinerarium). Главнейшие из них: ens imperfectum — ens perfectum: dependens — absolutum; finitum — infmitum; compositum — purum; in parte — totaliter; transiens — manens; per aliud — per se; posterius — prius; respectivum — absolutum; per participationem — per essentiam; in potenlia — in actu; diminutum — completum 8.
На эту существенную связь Декарта с Бонавентурой и со всей христианской мистикой справедливо указал Коуге в своей пенной книге «Essai sur l'id?e de Dieu». Paris, 1922, Ed. Leroux. P. 144—147, 167—168. Jilson в своих исследованиях постоянно указывает на связь Декарта со средневековой теологией.
116
dant, c'est–a–dire de Dieu, se pr?sente a mon esprit avec distinction et clar?…» (Med. IV). 9
Но он рассматривал ее как аксиому разума, тогда как она прежде всего выводит за пределы разума. Декарт не показал с достаточной силой перевеса иррационального в этой аксиоме. К этому рационализм был еще не способен. Декарт открыл нечто большее, чем мог осмыслить, нечто превосходящее его собственный метод и метод его века. Абсолютное не познается clare et distincte I0, точно так же как и ego. Абсолютное таинственно в своей глубине, столь же таинственно, как и я сам, и тем не менее очевидно. Этого не мог понять век рационализма: очевидность отождествлялась с ясностью и раздельностью, иначе говоря, с рациональностью и познаваемостью, что совершенно неправильно (см. об этом ниже).
Здесь лежит разгадка того, почему осталась непонятной и неоцененной самая изумительная мысль Декарта, что Бог столь же очевиден и достоверен, как мое я, как ego cogitans 11, и гораздо более достоверен, чем внешний мир. Рационализм решил признавать только то, что мыслится ясно и раздельно; но Абсолютное, Бога — нельзя мыслить «ясно и раздельно», а потому какая же здесь может быть «очевидность»? Какая здесь может быть доказательность?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: