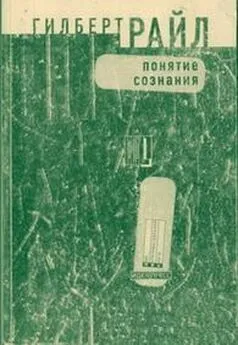Гилберт Райл - Понятие сознания
- Название:Понятие сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гилберт Райл - Понятие сознания краткое содержание
Книга является первым на русском языке изданием избранных работ известного английского философа Г. Райла. Целый ряд его идей, прежде всего относящихся к философскому анализу сознания и действия, пониманию природы категорий и дилемм, раскрытию заблуждений, возникающих в результате «категориальных ошибок» оказали значительное влияние на развитие современной философии. Книга Райла несомненно привлечет внимание не только философов, но и психологов и всех, кто интересуется загадками человеческого сознания и языка.
http://fb2.traumlibrary.net
Понятие сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стоит отметить одну-две характерных черты этого затруднения. Во-первых, это не спор двух физиологов. Несомненно, были и есть соперничающие физиологические гипотезы и теории, некоторые из которых будут побеждены другими. Но в данном случае сталкиваются не два или более соперничающих объяснения механизма восприятия. В спор вступают заключение, к которому, казалось бы, приводит любое объяснение механизма восприятия, и принимаемая каждым человеком повседневная теория восприятия. Точнее, говоря, что спор идет между физиологической теорией восприятия и другой теорией, я, пожалуй, слишком широко толкую слово «теория». Ведь пользуясь своими глазами и ушами, будь то в саду или в лаборатории, мы не используем никакой теории, которая разъясняла бы, каким образом с помощью зрения, слуха, вкуса и пр. мы узнаем цвета, формы, положения и другие характеристики объектов. Мы узнаем эти вещи (а иногда заблуждаемся), не руководствуясь никакой теорией. Мы находим применение своим глазам и языкам, когда еще не умеем в общем виде рассуждать о том, применимы ли они, и продолжаем применять их, невзирая на какие-то общие доктрины, толкующие об их применимости или же о неприменимости.
Характеризуя эту ситуацию, иногда говорят, что здесь налицо противоречие между научной теорией и теорией Здравого Смысла. Но даже это вводит в заблуждение. Прежде всего, это наводит на мысль, будто ребенок, глядя глазами и слушая ушами, в конечном счете становится на точку зрения какой-то теории — только теории расхожей, дилетантской, несформулированной, — а это совершенно неверно. Он вообще не задумывается о теоретических вопросах. Это предполагает, далее, будто способность узнавать вещи с помощью зрения, слуха и пр. зависит от здравого смысла или является частью здравого смысла — в том обычном значении этого выражения, которое подразумевает особый тип и меру природной смекалки, позволяющей справляться с не вполне обычными, непредвиденными практическими обстоятельствами. Здравый смысл или его нехватка проявляется не в умении или неумении пользоваться ножом и вилкой. Его [здравый смысл] проявляют, когда имеют дело с умеющим внушать доверие пройдохой или исправляют механическую поломку без нужных инструментов.
Вроде бы неизбежные выводы из объяснения восприятия, предлагаемого физиологом, кажется, подрывают репутацию не просто иной теории восприятия, а самого восприятия, т. е. отправляют в отставку не только некое предполагаемое мнение всех обычных людей о надежности их глаз и ушей, а сами их глаза и уши. В любом случае это видимое противоречие надо описывать не как противоречие между двумя теориями, а, скорее, как противоречие между теорией и ходячим мнением, между тем, что придумали некоторые специалисты, и тем, что каждый из нас не может не знать из опыта, — как противоречие между доктриной и обыденным знанием.
Теперь обратимся к дилемме совсем иного рода. Всякий знает, что если человеку в детстве не дать должного воспитания, то, повзрослев, он, скорее всего, не будет вести себя как должно; если же он получил хорошее воспитание, то, очень возможно, и в зрелые годы будет вести себя достойно. Всякий знает и то, что определенные действия лунатиков, эпилептиков, клептоманов или утопающих достойны сожаления, но не осуждения — и, разумеется, не похвалы. Подобные же действия нормального взрослого человека в нормальных ситуациях одновременно достойны и сожаления, и осуждения. Однако если плохое поведение человека говорит о плохом воспитании, то отсюда, видимо, следует, что винить за это нужно не его самого, а его родителей, а затем, в свою очередь, конечно же, и прародителей, и прапрародителей, а в конечном счете — никого. Мы совершенно уверены и в том, что человека можно воспитать моральным, и в том, что человека невозможно воспитать моральным; но то и другое не может быть истинным одновременно. Размышляя об обязанностях родителей, мы не сомневаемся, что именно их следует винить, если они не формируют поведение, чувства, мысли своего сына. Размышляя же о поведении сына, мы не сомневаемся, что за какие-то его поступки следует винить именно его (а не их). Наш первый вывод, кажется, исключает наш второй вывод, а значит — если сделать следующий логический шаг — исключает и сам себя. [31] То есть они взаимоисключают друг друга.
В чем-то похожие затруднения мы испытываем и тогда, когда на место его родителей подставляем наследственность, окружение. Судьбу или Бога.
В этом затруднении значительно ярче, чем в предыдущей дилемме (возникающей при объяснении восприятия), проявлена такая характерная черта. Здесь часто обе, вроде бы явно противоречащие друг другу, позиции равно готов принять один и тот же человек. Скажем, по понедельникам, средам и пятницам он убежден, что воля свободна, по вторникам же, четвергам и субботам — что могут быть найдены или уже найдены причинные объяснения поступков. Даже если он всеми силами старается отречься от одного взгляда в пользу другого, его убеждения громко провозглашаются оттого, что они безосновательны. [32] В оригинале: «пустой звук». Итоговая фраза этого фрагмента: give forth a loud because hollow sound, — звучит как поговорка, близкая по смыслу русской поговорке: «много шума из ничего».
В глубине души он скорее предпочел бы признать, что оба взгляда верны, нежели утверждать, будто знает, что поступки не имеют причинных объяснений или что людей никогда нельзя винить за их поступки.
Другая заслуживающая внимания черта этого затруднения такова. Соперничающие решения одной и той же проблемы требуют подкреплений. Свидетельства или доводы в пользу одной гипотезы явно недостаточно сильны, покуда еще имеют некоторую силу свидетельства или доводы в пользу ее соперниц. Если еще есть что сказать в их пользу, значит, пока еще недостаточно сказано в ее пользу. Необходимо найти больше свидетельств и лучшие доводы.
Но в логической дилемме, которую мы сейчас рассматривали, и во всех дилеммах, которые еще будем рассматривать, каждую из казалось бы несовместимых позиций можно сколь угодно хорошо подкрепить — было бы желание. Ни у кого нет желания собирать новые свидетельства в пользу утверждения, что хорошо воспитанные дети склонны вести себя лучше, чем плохо воспитанные, — как и в пользу утверждения, что некоторые люди иногда ведут себя предосудительно. Определенного рода теоретические споры — вроде тех, что нам предстоит разбирать, — должны улаживаться не внутренним укреплением каждой из позиций, а третейским судом совсем иного характера, например — раскрою карты, — не дополнительными научными изысканиями, а философскими исследованиями. Наша забота — не состязание направлений мысли, а тяжба между ними, где ставка делается не на то, какое из них выиграет, а какое проиграет состязание, а на то, каковы их права и обязательства в отношении друг друга, а также всех иных возможных позиций-истцов и позиций-ответчиков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: