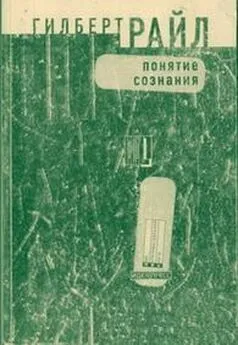Гилберт Райл - Понятие сознания
- Название:Понятие сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гилберт Райл - Понятие сознания краткое содержание
Книга является первым на русском языке изданием избранных работ известного английского философа Г. Райла. Целый ряд его идей, прежде всего относящихся к философскому анализу сознания и действия, пониманию природы категорий и дилемм, раскрытию заблуждений, возникающих в результате «категориальных ошибок» оказали значительное влияние на развитие современной философии. Книга Райла несомненно привлечет внимание не только философов, но и психологов и всех, кто интересуется загадками человеческого сознания и языка.
http://fb2.traumlibrary.net
Понятие сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В двух спорах, с которыми мы уже ознакомились, казалось бы, явно противоборствующие теории или точки зрения в общем и целом были взглядами на один и тот же предмет, а именно на человеческое поведение в одном случае и на восприятие — в другом. Но они не были соперничающими решениями одного и того же вопроса об этом предмете. Высказывание, что люди склонны вести себя так, как их приучили, является, пожалуй, несколько тривиальным ответом на вопрос: «Какие изменения вызывают в человеке адресуемые ему брюзжание и уговоры, подаваемые примеры, а также советы, нотации, наказания и пр.?» Высказывание же, что некоторое поведение заслуживает порицания, есть обобщение ответов на вопросы такого характера: «Действовал ли он, попирая нормы?», «Было ли это совершено под чужим давлением или в припадке эпилепсии?»
Аналогично этому высказывание, что одни вещи мы можем обнаружить зрительно, другие — на слух, но никакие — путем грез, гаданий, фантазий, воспоминаний, это не истинный или ложный ответ на вопрос: «Каков механизм восприятия?» Это, скорее, банальное обобщение ответов примерно на такие вопросы: «Как ты узнал, что часы остановились?» или«…что краска не высохла?»
Если слово «рассказ» понимать в расширительном смысле, то об одном и том же предмете возможны два или двадцать рассказов совершенно разного рода, причем каждый из них может быть подкреплен лучшими из возможных доводов в пользу рассказов этого рода. И все же представляется, что иногда принятие одного из этих рассказов требует признания полной никчемности по крайней мере одного из остальных — и не просто как лишенного ценности рассказа этого типа, а как лишенного ценности типа рассказа. Даже безупречная в своем роде репутация такого рассказа не делает его стоящим, поскольку лишен ценности (worthless) сам его тип.
Теперь, чтобы выявить еще кое-какие важные моменты, я хочу проиллюстрировать понятие тяжбы между теориями или учениями еще одним хорошо известным примером. В восемнадцатом и, вновь, в девятнадцатом столетии впечатляющее развитие науки, казалось, предполагало отступление религии. Механика, геология и биология поочередно толковались как вызов религиозной вере. Представлялось, что идет соревнование за призовое место, которое религия утратит, если оно будет выиграно наукой. Ретроспективно можно увидеть, что импульс, сообщенный философии в первой половине ХVIII и второй половине XIX столетия, в значительной мере определен серьезностью именно этих споров.
Первоначально заявленные претензии были просты. Теологи доказывали, что в физике Ньютона, геологии Лайеля или биологии Дарвина нет истины. Лидеры же новой науки соответственно доказывали, что нет ничего истинного в теологии. После одного-двух раундов обе стороны в определенных пунктах отступили. Теологи перестали защищать способ установления возраста Земли по епископу Эшеру и признали, что способ его определения, скажем, по Лайелю, в принципе верен. Исходя из теологических посылок, невозможно было дать ответы на геологические вопросы. С другой стороны, картины вроде предложенной биологом Т. X. Гексли — который представил человека шахматистом, играющим с невидимым противником, — стали рассматриваться как образец не хорошей (научной), а плохой (теологической) спекуляции. У этой картины не было и признака экспериментального основания. Она не была физической, химической или биологической гипотезой. В других же отношениях она сильно проигрывала в сравнении с христианской картиной. Она была не только безосновной, но и обесцененной, [33] То есть была лишена не только экспериментальных оснований, но и ценностей. Здесь автор использует слово «cheap»: дешевое и обесцененное.
тогда как христианская картина, каким бы ни было ее основание, не только не была обесцененной, но и учила различать то, что обесценено (лишено ценности) и что поистине ценно. Поначалу теологи не подозревали, что геологические или биологические вопросы не имеют непрерывной связи с вопросами теологии, [34] Т. е. лежат в иной плоскости, являются проблемами иного порядка.
а многие ученые тоже еще не догадывались, что вопросы теологические не имеют непрерывной связи с вопросами геологии или биологии. Между их вопросами не было зримой или осязаемой перегородки. Предполагалось, что искушенность в одной области уже заключает в себе умение разбираться с проблемами в другой.
Этот пример показывает не только то, как теоретики определенного вида могут невольно прибегать к положениям из области мышления совсем иного вида, но и то, как трудно им понять, даже когда уже началась межтеоретическая тяжба, где именно следовало бы расставить предупредительные знаки «Не вторгаться!». В стране концепций лишь ряд успешных и неудачных попыток предъявления иска о нарушении права владения позволяет определить границы владений и право прохода.
И еще один важный момент выявила эта историческая, но все еще не архаическая тяжба между теологией и наукой. Было бы грубейшим упрощением — пусть даже на какой-то момент и полезным — полагать, что теология призвана ответить всего лишь на один вопрос о мире, тогда как, например, геология или биология призвана ответить на другой — но тоже всего лишь один — вопрос о мире, принципиально отличный от теологического. Возможно, чиновники паспортных служб и впрямь стараются получить в конкретный момент времени ответ на один вопрос, причем их вопросы заранее распечатаны в виде анкет и пронумерованы. Теоретик же имеет дело не с одним лишь вопросом и даже не с перечнем пронумерованных вопросов. Он сталкивается с запутанным клубком трудно формулируемых, переплетающихся, ускользающих вопросов. Очень часто у него нет ясного представления о том, каковы его вопросы, пока он не выйдет на путь к ответу на них. Большую часть времени он даже не знает, каков общий характер той теории, которую пытается построить, и еще меньше — каковы точные формы и взаимосвязи составляющих ее вопросов. Часто, как мы увидим, он надеется — и иногда эта надежда сбивает его с толку, — что его пока еще зачаточная теория по своему общему характеру будет подобна некой достойной уважения теории из другой области, уже достигшей завершения или столь близкой к этому, что уже видно ее логическое построение. Глядя в прошлое, умудренные опытом, мы можем сказать: «Тем сутяжничающим теоретикам стоило бы понять, что некоторые из положений, которые они отстаивали и опровергали, относились не к соперничающим рассказам одного типа, а к рассказам совершенно разного типа, между которыми нет соперничества». Но как они могли это понять? Проблемы и решения проблем в отличие от игральных карт не имеют ни «рубашек», ни знаков достоинств, напечатанных на лицевой стороне. Даже то, какие были козыри, мыслитель может узнать только на поздней стадии игры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: