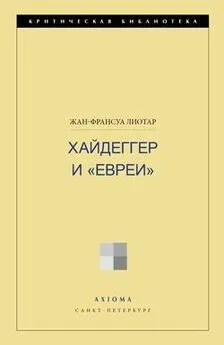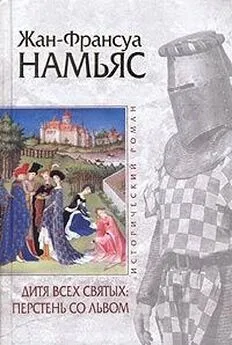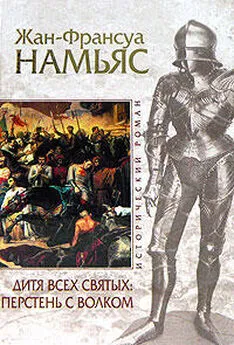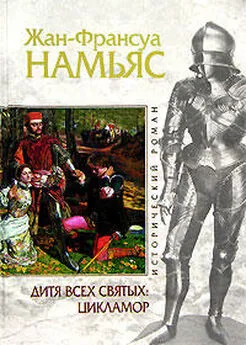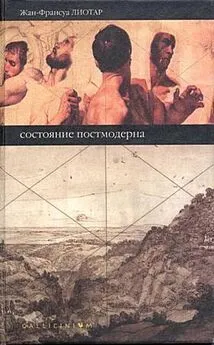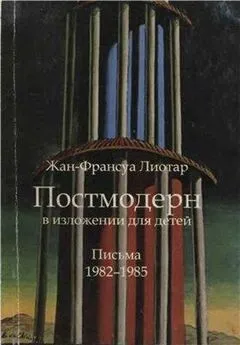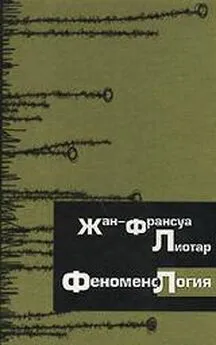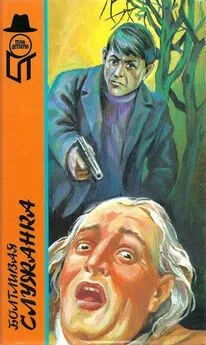Жан-Франсуа Лиотар - Хайдеггер и «евреи»
- Название:Хайдеггер и «евреи»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аксиома
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-901410-08-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Франсуа Лиотар - Хайдеггер и «евреи» краткое содержание
Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) — один из наиболее значительных представителей новейшей философии. В предлагаемой читателю работе европейский антисемитизм с его кульминацией — холокостом, отношение европейской культуры к этому «событию», пресловутое «непокаяние» Хайдеггера, степень вовлеченности великого мыслителя — и его мысли — в стихию нацизма, — весь этот комплекс тем подвергается у Лиотара радикальной разработке, парадоксальным образом основанной на анализе предельно классических и, казалось бы, не связанных с предметом построений: некоторых фрейдовских концепций и категории возвышенного в «Критике способности суждения» Канта.
Книга вызвала серьезный резонанс как во Франции, так и за ее пределами. На русском языке публикуется впервые.
http://fb2.traumlibrary.net
Хайдеггер и «евреи» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В мифе, а миф — это всегда также и геополитика. Геофилософия (Германии, Греции, Франции) является, очевидно, результатом бесконтрольной «мифизации» (FICTION, 132), которая повторяется и сопротивляется в, на первый взгляд, самой сдержанной мысли позднего Хайдеггера. Каковая остается накрепко связанной с сакральностью, полностью игнорирует Святое. Ну а этому движению исхода в направлении Закона нет места. Оно остается совершенно неведомым для Хайдеггера и недооцененным для Ф. Лаку-Лабарта (возможно, пока он не столкнулся с Целаном) (EXPERIENCE). Ф. Лаку-Лабарт пишет, однако, следующее: «Бог действительно умер в Освенциме, во всяком случае Бог греко-христианского Запада, и отнюдь не случайно, что те, кого хотели уничтожить, были на этом Западе свидетелями другого происхождения Бога, который там почитался и осмыслялся, — если, возможно, даже не другого Бога, оставшегося свободным от эллинистического и римского пленения и уже тем самым тормозящего программу свершения» (FICTION, 62–63).
И в самом деле, не «случайно», что объектом окончательного расчета стали «евреи». Я попытался продемонстрировать, какому в свою очередь вытесненному вытеснению, какому отторжению подчиняется «программа» массового уничтожения и почему «евреи» оказались ее предметом. Они, вне всякого сомнения, «тормозят» любую программу овладения, а также и любой проект подлинности. Они напоминают, что душа хозяина остается, и она тоже, заложницей вещи. Это отсутствие случайности не означает, тем не менее, что можно «объяснить» Освенцим, и я объясняю его не больше, чем кто-либо другой. Ибо изначальному Verdrangung'y нет объяснения. Оно не поддается обузданию. Оно лежит в «основе» всякой разнузданности. И евреи (без кавычек) не менее, а скорее более, чем другие, подвержены (они «жестоковыйные») забвению неименуемого. Всякий еврей — плохой «еврей», плохой свидетель того, что не представляется, как и всякий текст не в состоянии переписать то, что не было записано.
Я мог бы придраться здесь к Ф. Лаку-Лабарту по поводу его «другого происхождения» почитаемого на Западе Бога и его «другого Бога». Ибо если и имеется мысль, в которой происхождение не составляет вопроса, то это мысль «евреев». Я намекаю не только на то, что книга Бытия обычно признается библиоведами недревнееврейской, и не на чудесный и безумный «семейный роман», поведанный в «Человеке Моисее» Фрейда, эффект, если не цель которого состоит в запутывании происхождения и генеалогии монотеизма. Нет, не монотеизм и не креационизм отвечают за особый характер мысли «евреев». Желание Все-Единства будоражило дух древнейших из грекор ничуть не меньше, чем метафизиков и физиков я имею в виду — мирян современного Запада.
Если этот Бог — другой, то не как другой Бог, а как нечто другое по отношению к тому, что греко-христианский Запад называет Богом. Иначе, чем Бог, поскольку «иначе, чем бытие» (Левинас). «Происхождение», «инаковость» могут пониматься, будь то и как проблемы, лишь после того самого обустройства, которое, однако, Ф. Лаку-Лабарт и здесь, и в другом месте (SUJET) обособляет и вопрошает, обустройства мысли в философии, ее пусть даже и не тети-ческого «тезиса», каковым как раз и является вопрос о бытии.
Таков уж жест деконструкции, что он тормозит или зачаровывает сам по себе. Избавленный от своего онтотеологического (а также и этического, каковое оказывается тогда лишь одним из его аспектов) оснащения, этот вопрос «наконец» высвобождается и ставится Хайдеггером, как он ставился, по его словам, с самого начала. И это «наконец», добавляет Ж. Деррида, не имеет конца. Хорошо «поставить» этот вопрос означает засечь на метафизическом и даже экзистенциально-онтологическом тексте знаки, мельчайшие знаки нехватки бытия, знаки, которые подает само бытие. Деконструируешь, таким образом, потому, что все плохо сконструировано. Вместо огромных — неподлинных, глухих — сооружений, просеиваешь и распыляешь крохотные обломки, через которые бытие (то есть ничто) может на мгновение просочить свой сумеречный свет.
Когда дотошный и замечательный археолог наталкивается на пепел массового уничтожения, может ли он этому уж слишком удивиться? Не знал ли он всегда, что «дух» метафизики возводит свои здания на отрицании бытия, на его Verneinung'e, и что они обещаны отступлением бытия Vernichtung'y, уничтожению, пеплу? Его единственно могла бы обеспокоить дурная весть о том, что мастер деконструкции, глава пост-философских раскопок приложил к массовому уничтожению не руку, не даже мысль, а молчание и без-мыслие. Что он его «забыл».
Возвращаюсь к Ф. Лаку-Лабарту. На свой лад, обустроившись в проблематике философии, что следует понимать — невозможной философии конца философии, вскрываемой неотложностью вопроса о бытии и вскрывающей вплоть до самого конца его настойчивость в философии и «под» нею, он со свойственной ему смелостью подступает к Vernichtung'y и, похоже, какое-то мгновение полагает, что его следовало бы, возможно, связать, сартикулировать, чего доброго, с уничтожением чего-то другого, нежели «Бог философов», греческих и христианских. Другого происхождения. Или с уничтожением другого Бога. В любом случае — этих «свидетелей». В точности, кажется, тех, кого я до сих пор называю здесь «евреями».
Если придерживаться гипотезы, намеченной тогда Ф. Лаку-Лабартом, из нее, по-видимому, должно следовать, что, в отличие от дерридианского прочтения, как раз-таки не свое собственное разрушение завершила западная метафизика в Шоа во имя бытия, каковое в ней по-прежнему забыто. Речь тогда шла бы не об уничтожении всего сущего. Речь бы шла о ликвидации «свидетелей», но тех, которые не свидетельствуют, пусть даже и неподлинно, о бытии. Речь бы шла об устранении «другой» мысли, сокровенной и чуждой, не предназначенной подлинно к сохранению бытия, но обязанной по отношению к некоему Закону, чьей заложницей она является.
От подобной гипотезы можно было бы ожидать, что она рас-строит положение философа. Что она поколеблет его уверенность в том, что все осмыслявшееся и продолжающее осмысляться на Западе с самого начала философично. Его уверенность, что вопрос о бытии — единственный подлинный вопрос для западной мысли. Что она побудит его заподозрить, что Запад, возможно, обитаем, сам того не зная, ничего о том не ведая, неким насельником, что он таит в себе заложника, который не «западен» и который не является «его» заложником. А заложником чего-то, заложником чего является он сам. Мысль, которая ни в коей степени не схватывается и не перехватывается этим вопросом, которую, несомненно, искушает его представление, но для которой никогда не было существенным, так сказать, дать какое-либо его понятийное представление и тем самым — тем паче — его деконструировать, которая уже из-за этого никогда не могла вписаться ни в сферу философии, ни в сферу ее конца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: