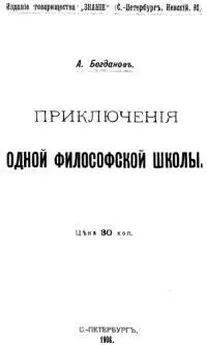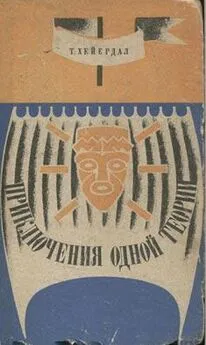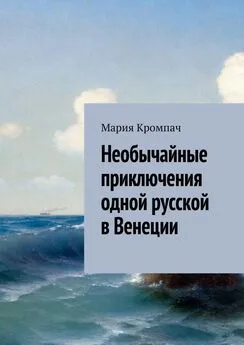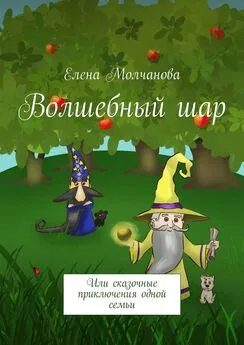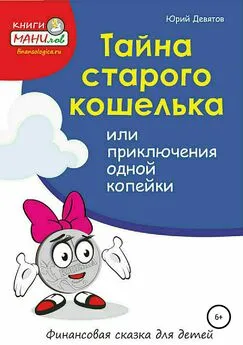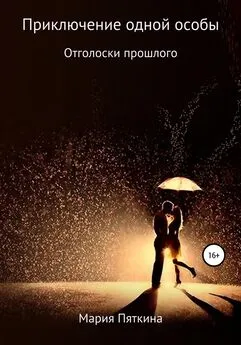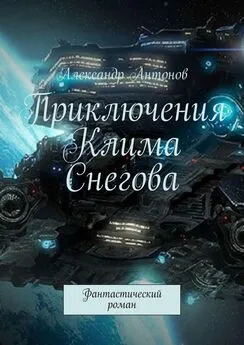Александр Богданов - Приключения одной философской школы
- Название:Приключения одной философской школы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:1908
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Богданов - Приключения одной философской школы краткое содержание
Предлагаемая читателю книга выдающегося отечественного философа и политического деятеля А. А. Богданова содержит критику идей философской школы Г. В. Плеханова. В работе представлена систематическая картина философской деятельности школы. Автор анализирует взгляды руководителя школы и ее основных представителей — Л. Ортодокс, Н. Рахметова, А. Деборина и других, показывает расхождения учителя и учеников по тем или иным вопросам мировоззрения. Освещается борьба школы Плеханова с эмпириокритицистами, эмпириомонистами и махистами.
Для полноты понимания текста необходимо отметить, что Н. Бельтов — это псевдоним Г. Плеханова.
http://ruslit.traumlibrary.net
Приключения одной философской школы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Какие еще нужны уроки для проповедников истины, «которой не устранят никакие дальнейшие противоречия»?
И что скажет будущий историк философии о таких философах среди марксистов XX века?
Только одним можно объяснить сохранение до сих пор столь давно пережитой наукой точки зрения: глубокой оторванностью некоторых «философов» от главного потока научно-технического развития и научно-технических революций нашего времени. И действительно, читая произведения философов «школы», все время кажется, будто живешь в мире научных понятий XVIII и первой половины XIX века; особенно характерно в этом отношении самое некритическое и свободное от всякого исследования применение таких понятий, как «материя», «вещи», «свойства», «природа», «силы» и т. под. — то в метафизическом, то в неопределенно-физическом смысле. Именно эти понятия глубоко преобразованы естествознанием XIX и начала XX века. Только в неразрывной, живой связи с развитием науки в целом , философия может идти вперед, а не бессильно топтаться на месте, среди привычных, но неопределенных, понятий [5].
И эта отжившая философия «истин навыки» способна вносить глубокую смуту в неопытные юные умы. Один молодой товарищ, энергичный и пылкий, с горечью говорил мне: «Не знаете вы, что делаете. Отвергая безусловность истины, проповедуя, что наша истина есть только истина времени, вы подрываете энергию работников. Из-за чего бороться, если завтра слова, написанные на моем знамени, может быть, станут заблуждением?»
Что ответить на это? Разумеется, все возможно понять неправильно, и всем можно злоупотребить. Боевая идея относительности истины, зовущая человечество вперед, без конца и без остановки, может для некоторых стать орудием оправдания их бесхарактерности, равнодушия и бессилия. Но тот, кто поймет эту идею, поймет и то, что борясь за истину своего времени, он борется за все будущие истины , которые из нее родятся, чтобы прийти ей на смену.
Как человеческие существа, истины живут, борются, умирают. Но если человек умер, значит ли это, что он жил даром? И если умерла истина, значит ли, что она жила даром? Да, люди часто живут свой век бесплодно, или даже во вред обществу; но истины — никогда. Откупщик Лавуазье был вреден обществу и был казнен; но дело великого химика Лавуазье — его истина — осталась. Скоро умрет и она; но без нее никогда не родилась бы та новая, еще более великая, истина, которая ее заменит.
Разве можно жалеть об этом?
Приключение III: Развитие идеологий
Каким образом возникает та, — навеки объективная, — истина, которую признает и проповедует Н. Бельтов? На это отвечает созданная им теория идеологического развития.
По этой теории, основной, формулированный Марксом, закон — развитие идеологий определяется развитием производственных отношений, — дополняется другим, специальным законом: развитие идеологий совершается путем идеологических крайностей.
«Возьмите, — говорит он, — любой вопрос, напр., вопрос о деньгах. Для меркантилистов деньги были богатством par excellence: они приписывали деньгам преувеличенное, почти исключительное, значение. Люди, восставшие против меркантилистов, вступив в „противоречие“ с ними, не только исправили их исключительность, но и сами, по крайней мер наиболее рьяные из них, впали в исключительность, и именно в прямо-противоположную крайность: деньги — это просто условные знаки, сами по себе они не имеют ровно никакой стоимости. Так смотрел на деньги, напр., Юм»… И затем, указывая, что действительность, якобы, не давала объективных оснований для такого взгляда — деньги своей стоимости фактически не теряли, — Бельтов делает вывод: «Откуда же произошла исключительность взгляда Юма? Она произошла из факта борьбы, из „противоречия“ с меркантилистами. Он хотел „сделать обратное“ меркантилистам… Поэтому можно сказать…, что юмовский взгляд на деньги целиком заключается во взгляде меркантилистов, будучи его противоположностью». («К разв. монист. взгл.», стр. 167-8, passim).
По таким же точно причинам, как полагает Бельтов, английские аристократы XVII века, полемически настроенные против религиозных пуритан, увлекаются материализмом, а французские утописты XIX века, стремясь «сделать обратное» материалистам просветителям, впали в религиозность.
Бельтов чувствует, что эта теория не согласуется с чистым историческим материализмом — что новый вводимый ею закон в каждом частном случае может оказаться в противоречии с основным марксовским законом, и следовательно — ограничить его действие. Бельтов не хочет быть еретиком, и старается устранить возможность такого конфликта двух законов разными благоразумными оговорками. Он указывает, что стремление идеологов «противоречит» главным образом и сильнее всего направляется на те стороны предыдущих идеологий, которые «служат выражением самых вредных в данное время сторон отживающего строя», он уверяет, что «ни один класс не станет увлекаться такими идеями, которые противоречат его стремлениям» (стр. 172-3). Но все эти оговорки ни к чему не ведут: они немедленно опровергаются теми самыми фактическими примерами, которыми иллюстрируется теория. Если утописты расходились с просветителями, как говорит Бельтов, «собственно по вопросу общественной организации», то стоило ли им впадать в религиозность ради сомнительного удовольствия «сделать обратное» просветителям, тогда как в действительности это ослабляло революционную силу их доктрин? И еще больше — разве не явно во вред своим классовым стремлениям «увлеклись» английские аристократы материализмом, — этим глубоко-просветительным в те времена учением, — столь невыгодным для класса, опирающегося в своем господстве на грубое насилие и на невежество народных масс? Нет, два закона все-таки столкнулись, и бельтовский закон проглотил марксовский, а заодно и все благоразумные оговорки, которые оказываются только словесными, не более.
(Я специально здесь остановился на этих оговорках, потому что упустил сделать это в предыдущей моей статье, где также разбиралась данная теория — «Эмпириомонизм» III ч., стр. XXV–XXX. Читатель видит, что по существу дела тут ничего не меняется).
Итак, теория Бельтова оказывается ограничительной поправкой к историческому материализму, поправкой в духе самостоятельности идеологического развития, т. е. в духе социального идеализма . А может быть, она все-таки верна и полезна?
Прежде всего бросается в глаза крайнее несоответствие между задачей теории, с одной стороны, ее основой — с другой. Требуется — найти закон идеологического развития. За основу берется — полемическое увлечение. Такая теория может, пожалуй, годиться на то, чтобы объяснить отдельные промахи того или другого писателя, но отнюдь не на то, чтобы объяснить развитие идеологии общественных групп и классов, — вплоть до объективной истины остающейся навеки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: