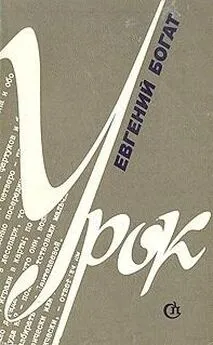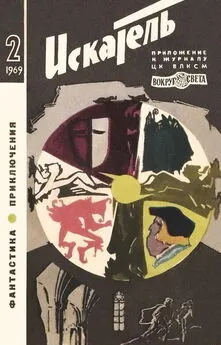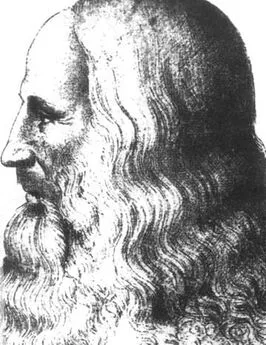Евгений Богат - Урок
- Название:Урок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Богат - Урок краткое содержание
В книге Евгения Богата «Урок» собраны очерки, публиковавшиеся в последние годы в «Литературной газете». Они посвящены проблемам становления духовных ценностей, формирования личности в современном социалистическом обществе.
Публицистика Евгения Богата — примечательное явление 60–70-х годов, когда вопросы личной и социальной нравственности стали центральными в общественном обсуждении.
Евг. Богат, обращаясь в каждом из своих очерков к конкретному случаю, стремится проследить общие материальные, этические, нравственно-духовные связи.
Урок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Я был у Вас и разговаривал с Вами по поводу возвращения библиотеки Воронцова в алупкинский дворец-музей. В эти дни я искал библиотеку по всей Москве и наконец нашел ее, встретив Вас, для меня это было большой радостью. Сообщите мне, пожалуйста, и как только можно поскорее:
1. Все ли книги находятся в Вашем отделе разбора? Их было 25–30 тысяч томов. Библиотечный зал дворца-музея, по моему настоянию, распоряжением Министерства культуры СССР ремонтируется. Ремонт заканчивается. На полках зала помещалось 25 тысяч томов, остальные были в библиотечной башне дворца-музея.
2. Есть ли возможность возврата хотя бы этих 25 тысяч томов?
3. И как скоро?
4. Что для этого требуется?
Уважаемая Елена Всеволодовна, ответьте мне! Я буду Вам чрезвычайно благодарен!»
Это деловое, с параграфами, суховато-лаконичное письмо дышит, показалось мне, подлинной страстью. Я посмотрел на Ветроградскую:
— И вы не вернули?
— Они… — женщина задохнулась, — они, в Алупке, хотят не книги… им нужны муляжи… для вида… а нет у нас м-м-муляжей. — Чувствовалось, что она страдает. — Их делают в мастерских. А у нас — это…
И тут меня кольнуло, что, быть может, это стало ненужным именно в силу совершеннейшей бесценности, фантастической редкостности, стало ненужным потому, что оно, по существу, почти нереально, как нереальна жар-птица. Вот если бы она чудом, ослепив меня, залетела вечером в комнату, я постарался бы выдворить ее побыстрее: мне покойнее и уютнее читать, отдыхая от дневных трудов, детектив в локальном освещении торшера. Может быть, это, косно тяжелея в бесценности, вышло из моды, как вышли из моды вещи из чистого золота?..
Но нет же, нет! Ведь это — не вещь! Я посмотрел опять на живописную кладку и подумал, что замуровано в ней? Чья мудрость? Чья печаль? Чья надежда? Чьи сердца? Потом вернулись мы в первое помещение с лестницей, ведущей в никуда, на которой в летаргической неподвижности покоилось сокровище Щеколдина. И я подумал: что испытал он, увидев эту лестницу? Не воскресила ли в ту минуту его память иную лестницу — темную, опасную, потайную, по которой он поднимался в башню, устраивая в относительной безопасности редчайшие издания и замирая при этом от мысли, что сюда могут нагрянуть фашисты?..
Я посмотрел на Елену Всеволодовну:
— Известно хотя бы, что лежит на этой лестнице?
— Нет… — И опять по ее лицу видно было, что она страдает. — Вы поймите, мы — разборно-обменный фонд. К нам это попало…
Я понимал: в бывшие мануфактурные склады залетела жар-птица. Факты, о которых рассказала мне по телефону Эмма Сазонова, подтвердились, как пишут в официальных ответах, полностью. Теперь оставалось поехать в Ставрополь, повидать самого Щеколдина.
Идти к нему нужно мимо южных белых домиков, по обрывом бегущей улице; кажется, что вот-вот откроется морс… Конечно, моря нет, но томительное, хотя и обманчивое, ощущение его радует, наверное, Щеколдина, напоминает Крым.
— С чего началось мое беспокойство о библиотеке?
Ему шестьдесят семь, а седина какая-то молодая, такая обаятельно юная седина бывает иногда у тридцатилетних.
— Ну вот, был я в краю, от Крыма далеком, и получил письмо от Марии Павловны Чеховой. Посмотрите… — Бумаги у него в идеальном порядке. — «Благодарю Вас, Степан Григорьевич, за память обо мне… В доме-музее А. П. Чехова абсолютно ничего не изменилось, посещаемость растет… Теперь о Воронцовском дворце. В нем теперь государственная дача, для посещения публикой он закрыт… Увидимся с Вами, дорогой, наговоримся вдоволь. Не падайте духом». Духом я не пал, а покой потерял. И первая мысль была почему-то о библиотеке. Ведь каждую из этих тридцати тысяч книг я держал в руках не меньше трех раз. В середине пятидесятых годов, когда Воронцовский дворец опять был открыт как музей, я поехал в Алупку уже отсюда, из Ставрополя, где обосновался с семьей, работал экономистом. Я ведь по образованию экономист, а не искусствовед или музейный работник, ну, да об этом потом… Поехал в Алупку, а библиотеки там нет. Пока дворец переживал метаморфозы, ее с картинами и статуями отдали куда-то. Художественные ценности обнаружились в местах хороших, обошлись с ними любовно, были они в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. А библиотека как в воду канула! Вышел я на пенсию и поехал в Москву — искать. Пошел, конечно, в Министерство культуры, а мне там и говорят: если узнаете, уважаемый товарищ, где она, и нам, пожалуйста, сообщите. Вот… Ходил-ходил по разным библиотекам, с Ленинской начиная, пока не нашарил в Черкасском эту разборно-обменную. Увидел… Теперь, если желаете, познакомьтесь с моей деловой перепиской. Тут не об одной библиотеке…
«Министру культуры СССР от гражданина Щеколдина Степана Григорьевича…», «Министру культуры УССР от гражданина…»
От гражданина. Хочется подумать над этим, но я решаю: потом, не терпится познакомиться с содержанием папок. Читаю — и кажется, что это результат работы целых комиссий, изучавших терпеливо состояние алупкинского дворца-музея в сопоставлении с тем, каким он был до войны.
«Позволю себе перечислить Вам нужные, по-моему, меры:
1. Возвращение дворцу ценностей, бывших в его экспозициях.
2. Расширение экспозиционных площадей музея.
3. Укомплектация необходимым штатом создаваемого теперь отдела реставрации.
4. Восстановление итальянского парка».
Двенадцать страниц убористого машинописного текста, максимально конкретного, безупречно точного и целеустремленного — строки как стрелы, — двенадцать страниц делового текста, дышащего подлинной страстью.
А вот и ответы. Из Министерства культуры СССР:
«Благодарим Вас за дополнительные материалы по алупкинскому музею. Недавно на наш запрос Госстрой УССР сообщил, что алупкинский музей внесен в список памятников архитектуры УССР, подлежащих государственной охране. Ваши соображения об улучшении деятельности музея рассмотрены нашим министерством».
Второе письмо, тоже от Министерства культуры СССР, с перечнем конкретных мер, совпадающих с теми, что были в докладной записке Щеколдина. А вот ответ из Министерства культуры УССР:
«На Ваше письмо сообщаем, что создана комиссия…»
И пишут это не ведомству, не государственной организации, а частному лицу, ставропольскому пенсионеру, гражданину Щеколдину.
Частному лицу… Гражданину… А родственны ли эти понятия, можно ли ставить их рядом? Разве гражданин — частное лицо? А тот, кто чувствует себя частным лицом, — гражданин? Не пора ли вернуть утраченное гражданство этому великому, рожденному пафосом социальной борьбы и революции понятию? То леденящее, казенное, что в нем, увы, появилось, не имеет ничего общего с первоначальным, гордым, демократическим содержанием этого высокого имени «гражданин». Мне, возможно, возразят, что оно было высоким в античном мире, в революционной Франции, в кругу русских революционеров-демократов, а сейчас появилось более теплое и сердечное «товарищ». Я и сам люблю это обращение, но оно именно обращение и не обладает социальной емкостью «гражданина». «Товарищ» относится к «ты», а «гражданин» относится и к «я»… В сущности, удивительно, что, чувствуя величие гражданственности, мы начисто отрешаемся от него, когда говорим, думаем: гражданин. Разве первое не должно жить во втором? Любое слово многозначно, «гражданин» тоже. Но да не окажется потерянным самое коренное его значение: человек, ощущающий живое родство с общиной, с обществом, с государством, человек, испытывающий гражданские чувства. Было бы печально, если бы остальные, временные, формальные значения заслонили это — вековечное, неформальное. Письма Щеколдина государственным организациям и ответы на них — ответы, бесспорно, показывающие силу нашей демократии, — выявляют немеркнущую, нестареющую суть «гражданина».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: