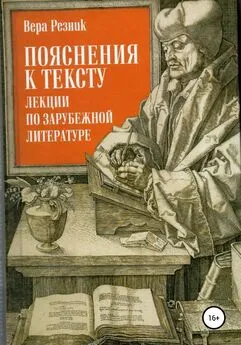Григорий Амелин - Лекции по философии литературы
- Название:Лекции по философии литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Амелин - Лекции по философии литературы краткое содержание
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.
Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.
Лекции по философии литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Герой стихотворения не одинок — он на прогулке с неназванной подругой по берегу Оки. Но Ока, и не только у Маяковского, — открытый глаз, око, как, например, у Хлебникова: «Очи, где волны Оки…» (V, 114).
«Ока» сама по себе — говорящее, открытое, окающее имя. И в «Пустяке…» река переполнена через край шумами и голосами. Ока превращается в огромное ухо. При этом Маяковский уравнивает слух и голос.
Одного маленького мальчика спросили, что он больше любит — радио или телевидение? Он сказал: «Радио». — «Почему?» — «Картинка лучше», — отвечал малыш. Еще одна невозможная вещь. Для нас розно, для поэта суть одно. «Музыка и оптика образуют узел вещи», — говорил Мандельштам. Поэтому можно писать по звуку и говорить пиша. Теофиль Готье заключал о Бодлере: «В его голосе были курсивы и прописные заглавные буквы» [17] Т. Готье. Шарль Бодлер. СПб., б.г., с. 6.
. С подобным «совпадением глаза со звуком» (Белый) мы сталкиваемся в Серебряном веке постоянно. Ока, как сказал бы Мишель де Серто, — типичный глоссограф, то есть она включает в себя и глоссу, и графический элемент.
Маяковский следует той же идее единства взгляда и голоса. Здесь тот, кто слышит, и что слышимо, — уже неразличимы. Месяц как стихотворная строчка, а сам стих как явление природы. Вертящийся месяц предстает строкой из Аверченко, далее — зияние трех точек. «Всё заверте», — писал Маяковский в письме Лиле Брик в декабре 1917 года, повторяя слова дамы-писательницы из рассказа Аверченко «Неизлечимые» (сборник «Веселые устрицы», igio). Пустота после имени немедленно заполняется странным комплиментом своей спутнице: «Вы прекрасно картавите». Почему нет? — кому что нравится. Но почему при этом «жалко Италию»? Отточием обозначена ее реплика (после фамилии Аверченко): «Аркадия?». Картаво произнесенное, имя звучит так, как называл Ламберт главного героя «Подростка» Достоевского Аркадия Версилова — «Ахгадий». Маяковский превращает пасторальное имя «Аркадия» в сатириконовский гимн, посвященный самому Аверченко. По античному прообразу Аркадией именовалась итальянская литературная академия, основанная в 1690 году в Риме, — оплот «хорошего вкуса», просуществовавший два столетия. Это та самая академия, в которую барон Мюнхгаузен был принят под именем «Неувядающий».
Теперь — стихотворение 1913 года «Уличное».
Вот оно полностью:
В шатрах, истертых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква,
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашенная буква.
Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я.
Ходьбой усталые трамваи
скрестили блещущие копья.
Подняв рукой единый глаз,
кривая площадь кралась близко.
Смотрело небо в белый газ
лицом безглазым василиска. (I, 37)
Что с этим текстом сделает филолог? Начнет считать размер, число гласных и согласных (и их соотношение) или будет растаскивать текст на претексты и цитаты. А философ, вроде Подороги, будет толковать о трансгрессивной телесности. Результат в обоих случаях — ноль.
Даже выявляя первичную религиозную образность (лики, раны, кресты) и аляповатую христоподобность героя (он — новый Христос, ни больше, ни меньше), мы с трудом понимаем, что здесь происходит. Это какой-то шаманящий, бьющий в бубны ритуал. Пастернак: «…Как подходит этот стиль к духу времени, таинственному, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город главным событием — улица». Итак, главное лицо — город главное событие — улица. «Улица» — важнейший топос новой поэзии. Она сама по себе полна лиц и ликов: «Быстры уличные лица…» (Хлебников; 1,277). Но у Маяковского на сей раз не просто «улица», а «уличное». Какая здесь разница? Уличное носит отпечаток личного, личности и задает внутреннее, субъективное измерение места. К тому же слово уличное имеет вызывающее, изобличительно-разоблачительное значение. Герой уличает мир, в чем — вопрос. В несостоятельности, должно быть. Это не изгнанник и з города, а изгнанник в городе.
Давая стихотворению название, Маяковский развертывает его значения по звуковой форме слова, как по завивающейся раковине, которую улитка носит на себе. «Давно замечено, — писал Флоренский, — что в литературном произведении внутренно господствует тот или другой образ, то или другое слово; что произведение написано бывает ради какого-то слова и образа или какой-то группы слов и образов, в которых надо видеть зародыш самого произведения…» (II, 517). Всякое стихотворение — шатер созвездия, натянутого на остриях нескольких слов (или одного слова названия). Текст — результат такого случившегося, самореализовавшегося слова, но и само слово — сгруппировавшийся итог текста, его изюминка.
Слова, которыми пользуется поэт, — не слова в ряду других слов, не отражение и не повтор того же самого слова естественного языка (а мы ведь думаем, что если мы знаем язык, мы уже знаем, что написано Маяковским). Слово изымается из употребления, оно, используя мандельштамовское выражение, — вырванный с мясом звонок. «Улица» Маяковского и «улица» как слово из словаря — даже не два разных слова, а два разных языка. Слово получает жизнь и смысл относительно того мира, в котором появляется. И чтобы понять, к примеру, смысл слова «уличное» («улица»), надо все, что Маяковским написано, протащить через игольное ушко этого слова — «уличное».
«Шатры» — атрибут пасхальных празднеств и Воскресения (иудеи строили на Пасху шатры, палатки). Купол шатра — в проступающих ликах, иконах, но это купол торгового ряда, купол балаганного шатра, где вместо крови — блоковская клюква.
И пасхальное яйцо, и рыба — символы Христа. Пасхальное яйцо, «крашенка» смотрит на нового Спасителя аббревиатурой ХВ («Христос Воскресе»), наскакивая и пронзая одной из мировых букв воскресения — В, ставшей инициалом поэта. «Первая согласная простого слова, — писал Хлебников, — управляет всем словом — приказывает остальным» (V, 235). Инициалы самого Хлебникова полностью совпадали с инициалами воскресения. (Набоков говорил, что его инициалы, В. H., раскрываются так — «Видимая Натура».) Будем всегда внимательны к инициалам, они подчас — единственный ключ к тексту. Говорят, Бах, подписывая денежную сделку, заметил, что буквы его имени составляют оригинальную мелодию, и написал на нее фугу.
Сама эта крашенная, пасхальная буква скачет, как конь, по-хлебниковски — из иконы. Ср. столь любимое Пастернаком хлебниковское — «Ах, князь и кнезь, и конь, и книга…» Особое отношение юного богомаза Маяковского к крашеным яйцам запротоколировано биографически: «Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вер тятся, и скрипят, как д вер и. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10–15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину» (1,15). Поедание — знак ближайшего родства человека и вещи, тесной связи с миром. Не то у Маяковского. Яйцо — знак расподобления, конечно, не с миром как таковым, а со старым миром. Вертящиеся и скрипящие, как двери, пасхальные яйца — атрибуты веры. В «сваях» гулкого шествия по городу звучит еще один пасхальный символический атрибут — «ваи», ветви пальм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: