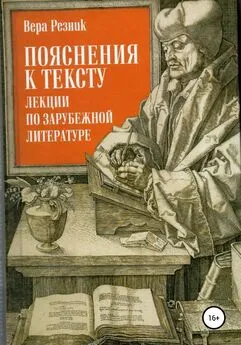Григорий Амелин - Лекции по философии литературы
- Название:Лекции по философии литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Амелин - Лекции по философии литературы краткое содержание
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.
Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.
Лекции по философии литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И каждый текст мечтает стать Библией, то есть быть не отражением и частью истории, а тем, что историю в себя включает. Когда Достоевский хочет создать «русское евангелие» (само по себе ересь ужаснейшая, раз несть ни эллина, ни иудея), он мечтает о Романе, который бы стал законом для национального бытия и вбирал бы в себя русскую историю как элемент своего сюжета.
Бахтин говорил о коперниковском перевороте в романе Достоевского: автор теряет власть над героем. То, что было твердым и завершающим авторским определением, становится самоопределением персонажа. Герой действительно становится героем —мы ведь называем «героем» человека, который, во-первых, сделал что-то сам, а во-вторых — выделился в обычной жизни каким-то необычным образом. Позиция автора теперь не абсолютна, а относительна. Что значит абсолютное? Это когда что-то определяется относительно самого себя, относительное всегда определяется через что-то другое. Автор знает теперь не больше других героев. Приходит конец его монологизму. В монологическом мире герой, так сказать, закрыт, и его смысловые границы строго очерчены. Слово и дело героя даны в оправе, в вакуумной оболочке авторского замысла. Коперниковский поворот — и герой самостоятелен и свободен! Он теперь существует в актах самосознания и свободного поступка. Герой открыт и незавершен. И поэтому он таит в себе загадку. Более того, Раскольников в конце «Преступления и наказания», когда, казалось бы, все сказано, понято и прощено, становится еще более таинственным и неразгаданным, чем в начале романа. В этом, кстати, Оскар Уайльд видел главную заслугу Достоевского, который, по его словам, никогда не объясняет своих персонажей, и они всегда сохраняют какую-то тайну бытия.
Подобно тому как Бахтин противопоставлял Толстого и Достоевского, Георг Зиммель в своей великолепной книге «Гете» противопоставлял Гете и Шекспира. Зиммель пишет: «Шекспировское творчество по своей чистой идее находит свой символ в божественном созидании. В сотворенном мире нечто, из чего он был сотворен, хаос или не имеющее названия бытие, исчезло, растворилось в сумме отдельных образований; вместе с тем, если подходить с другой стороны, и сам творец отступил от них, предоставил их самим себе и внушенным им законам, он уже не стоит за ними как нечто осязаемое и одно-значно обнаруживаемое. Образы Шекспира выступают как художественная аналогия этому абсолютному и метафизическому. Вся их „природность“ не означает, что в каждой единичной природе ощущается общая, единая „природа вообще“, она не объединяет их как общая почва, в которую уходят их корни, но каждая единичная природа впитала в себя бытие до последней капли и перевела его без остатка именно в эту индивидуальную форму. И сам создатель стал невидимым, скрывшись за своим творением, его отдельные создания не указывают на него как на дополнение, толкование, фон или идеальный фокус. Чрезвычайно символично, хотя это и случайность, что мы ничего, кроме нескольких внешних обстоятельств, не знаем о Шекспире. Его создания и образы, отделившись от него и — понимать это следует cum grano salis [с крупинкой соли, т. е. с известной осторожностью] — восприятие его творений и наслаждение любым из них едва ли уменьшилось бы, если бы оно было создано другим автором. Бытие, заключенное в каждом из его трагических образов, доходит в качестве индивидуального до последних волокон его корней и отделяет его в несравненной самостоятельности и замкнутой пластичности как от объективной сопричастности всех существ, так и от принадлежности их стоящей за ними субъективности поэта, которая могла бы их связать. В обоих отношениях произведения и отдельные образы ориентированы у Гете иначе. Художественное творчество Гете основано на чувстве той же природы, понятие которой служит фундаментом его теоретической картины мира. Мир для него универсальное единое бытие, которое отпускает от себя образы и вновь вбирает их в себя („Рождение и могила — единое вечное море“), но ни на мгновение не позволяет им полностью отделиться от этой основной физически-метафизической субстанции („Вечное движется во всех“). Родственность всех образов, которая у Шекспира состоит разве что в некотором тождестве их художественной трактовки, стиля и очертаний, дана у Гете посредством их пребывания в единстве природы, из которой отдельный образ поднимается, как волна из глубин моря в своей, быть может, никогда более не повторяющейся форме. „Природа“, в образе которой или как создания которой Гете видел явления, значительно пространнее, метафизичнее, в большей степени служит общей связью всех индивидов, чем „природа“, создающая шекспировские образы. Но поэтому она и не столь концентрирована в каждом из них, не создает их с такой вулканической силой. У Шекспира речь идет о природе отдельного явления, у Гете — о природе вообще, которая вечно одна и та же, лежит в основе каждого из них. (…) Подобно типичным великим людям Возрождения шекспировские индивиды как бы оторвались от Бога, метафизичность их существования наполняет их с головы до ног, тогда как гетевские индивиды воспринимаются как члены одного метафизического организма, как плоды одного дерева — без того, чтобы эта пребывающая в них и вновь вбирающая их в себя „природа“ приводила бы к качественному единообразию между ними. (…)
У Шекспира поэтически-творческая личностная точка, в которой пересекаются жизненные линии его образов, находится как бы в бесконечности, у Гете она всегда остается в пределах поля зрения» [27] Георг Зиммель. Избранное. М., 1996, т. I, с. 286–287.
.
Шекспир, по мысли Зиммеля, творит как Господь Бог. Сотворив мир, Творец отступает от него, живые существа предоставляются самим себе. Здесь Творец, вопреки Эйнштейну, — играет в кости, да еще как. В шекспировском мире как бы нет единой почвы и единого закона. Каждый герой впитывает в себя бытие до последней капли и переводит его без остатка в индивидуальную форму. И каждый трагический персонаж существует самостоятельно. Он отделен своеобразным экраном и от объективной природы других персонажей, и от субъективного произвола автора. Не то у Гете. Его образы растворяются в рассоле единого бытия. А он как автор надзирает за всем и вся. Образы Гете — плоды единого дерева, шекспировские — как арбузы на бахче, растут каждый сам по себе.
За таким классическим образом мира, как у Гете, стоит определенная онтология сознания. Это сознание наблюдает объективные явления и извлекает из них знание. Явление же в своем содержании полностью пространственно выражено. Все, что можно сказать о структуре этого явления, развернуто для внешнего наблюдения. «Объективное» и «пространственное» здесь — одно и то же. И оба термина равны «внешнему наблюдению». В явлении нет ничего внутреннего и субъективного. А внешнее наблюдение, способное объективным образом раскрывать сущность предмета, его строение и законы, — по определению рефлексивно, то есть задается декартовским правилом «когито» (или трансцендентального «я»). Понятие когито выделяет среди всей совокупности явлений — особую категорию явлений, которые обладают свойством непосредственной достоверности. Такое явление понятно само через себя и не нуждается для своего понимания в том, чтобы его разлагали и прибегали для его объяснения к каким-то другим вещам. Оно самореферентно. Таким и является феномен сознания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: