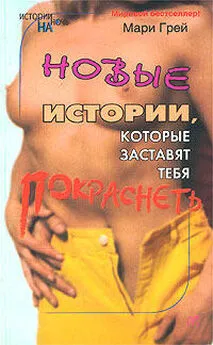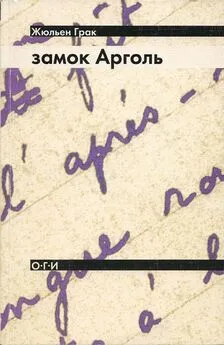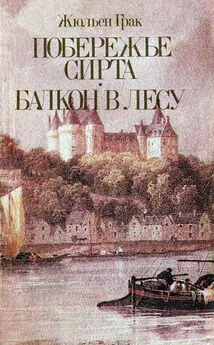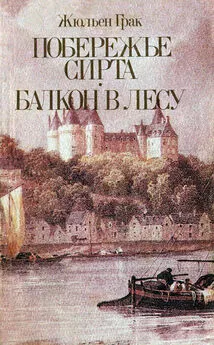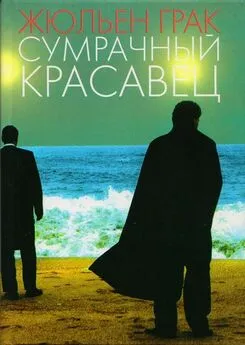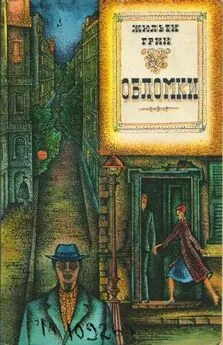Жюльен Бенда - Предательство интеллектуалов
- Название:Предательство интеллектуалов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Социум»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91066-032-2, 978-5-224-01122-7, 978-5-91603-024-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюльен Бенда - Предательство интеллектуалов краткое содержание
Французский писатель, философ, публицист Жюльен Бенда (1867 – 1956) вошел в историю европейской культуры главным образом как автор книги «Предательство интеллектуалов» (1927). В представлении Ж. Бенда, общественная функция интеллектуала – сохранять вечные духовные ценности человечества и служить для людей нравственным ориентиром, показывая им образец деятельности, не подчиненной практическим целям. Но интеллектуалы, утверждает автор, изменили своему назначению – не потому, что оказались вовлеченными в события истории, а потому, что утратили важнейший свой атрибут: беспристрастность. Вместо того чтобы судить обо всем происходящем с позиций общечеловеческой справедливости, общечеловеческой истины, общечеловеческого разума, они приняли реализм массы, прониклись «политическими страстями» и стали разжигать их в согражданах.
Книга вызвала оживленные споры. Насколько реален созданный автором облик подлинного интеллектуала? Когда интеллектуал становится «предателем»: тогда, когда «предает» вечные ценности, или же тогда, когда «предает» свою социальную группу, нацию, страну? Всегда ли можно оценивать конкретные действия исходя из отвлеченных моральных принципов? Какова мера участия интеллектуала в политической жизни общества?
Предательство интеллектуалов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возрастание однородности страстей сопровождается, для некоторых из них, возрастанием определенности . Известно, к примеру, что социализм, который в первые десятилетия прошлого века был у множества его адептов страстью могучей, но смутной, сегодня конкретизировал свои цели, точно установил в расположении противника место, куда он должен нанести удар (монополии), уяснил, какое движение он должен организовать, чтобы этого достичь; такой же прогресс наблюдается и в антидемократизме. Известно и то, что ненависть, приобретая бóльшую определенность, становится гораздо сильнее.
Политические страсти совершенствуются и вот в каком отношении. До недавнего времени эти страсти бушевали в истории не всегда; приступы чередовались с передышками, периоды подъема – с периодами спада. Что касается расовых и классовых страстей, то здесь за многочисленными грозными вспышками следовали долгие годы спокойствия или, по крайней мере, снижения активности. Между нациями годами длились войны, но не ненависть, если она существовала. Сегодня же достаточно регулярно просматривать любую утреннюю газету, чтобы убедиться, что без тех или иных проявлений политической ненависти не проходит и дня. В лучшем случае ненадолго умолкает одна ненависть и на первый план выступает другая, требующая, чтобы ей отдавались безраздельно; настал час «священных союзов», которые возвещают отнюдь не о царстве любви, а только об общей ненависти, временно одерживающей верх над частной ненавистью каждой из сторон. Политические страсти приобрели в наши дни чрезвычайно редкий в сфере чувств атрибут: постоянство .
Обратим внимание читателя на то движение, вследствие которого разного рода частная ненависть отступает перед более общей, черпающей из сознания своей общности новую религию – религию самообожествления, – а значит, и новую силу. Наверное, немногие уловили в таком движении существенную черту XIX века. Это не только век, в течение которого дважды, в Германии и в Италии, исконная ненависть малых государств поглощалась великой национальной страстью, но и век (точнее – конец XVIII века), когда во Франции вражда между придворным и провинциальным дворянством утихла, побежденная пароксизмом ненависти того и другого ко всему, что «не благородно»; вражда дворянства шпаги и дворянства мантии была потушена тем же порывом; вражда верхушки и низов духовенства потонула в их общей ненависти к поборникам секуляризации; вражда клира и дворянства уступила место ненависти к третьему сословию; наконец, в наши дни взаимная ненависть трех сословий сменилась единой ненавистью собственников к рабочему классу. Конденсация политических страстей, их переход в небольшое количество простейших видов ненависти, имеющих глубочайшие корни в человеческом сердце, – достижение современной эпохи [135].
Я думаю, немалый прогресс в области политических страстей заключен и в том, как они соотносятся сегодня с другими страстями захваченного ими человека. У буржуа старорежимной Франции политические страсти хотя и занимали гораздо большее место, чем обычно полагают, но все же уступали страсти к наживе, жажде наслаждений, семейным чувствам, позывам тщеславия. О нынешнем же его собрате можно сказать по меньшей мере, что, поселяясь в его сердце, политические страсти обитают там наравне с прочими. Сопоставим, например, ничтожное место, занимаемое политическими страстями у французского буржуа, представленного в фаблио, в средневековой комедии, в романах Скаррона, Фюретьера, Шарля Сореля [136], с тем местом, какое они занимают у того же буржуа, изображенного Бальзаком, Стендалем, Анатолем Франсом, Абелем Эрманом, Полем Бурже (разумеется, я не говорю о кризисных временах, таких как период Католической лиги или Фронды, когда политические страсти, коль скоро они завладевали индивидуумом, владели им целиком, без остатка). Сегодня мы можем даже, не погрешив против истины, сказать, что политические страсти у этого буржуа покорили себе большинство других страстей и подогнали их под свою мерку. Известно, что в наши дни соперничество семейств, торговая борьба, карьерные амбиции, погоня за должностями и званиями носят отпечаток политических страстей. Политика прежде всего , утверждает один из апостолов современной души; политика везде, может он констатировать, политика всегда, и только лишь политика [137]. Нельзя не увидеть, какую силу приобретает политическая страсть, сочетаясь с другими, столь многочисленными, столь постоянными и столь могучими страстями. – Что касается человека из народа, то, чтобы оценить, насколько изменилось в нем теперь соотношение политических и других страстей в пользу первых, вспомним, как долго всякая страсть его, согласно характеристике Стендаля, сводилась к двум желаниям: 1) не быть убитым, 2) иметь добротную теплую одежду. Вспомним, как медленно впоследствии, когда, частично преодолев нищету, он позволил себе кое-какие общие взгляды, – как медленно смутные желания социальных перемен преобразовались у него в страсть с ее главными чертами: навязчивой идеей и потребностью перейти к действию [138]. Думаю, можно сказать, что во всех классах политические страсти достигли сегодня у тех, кем они завладели, небывалой степени преобладания над другими страстями .
Читатель наверняка подметил один важнейший фактор описанных нами трансформаций. Что политические страсти стали всеобщими, слитными, однородными, постоянными, преобладающими – во многом дело дешевой ежедневной политической газеты; этого не будет отрицать никто. Напрашивается смелая мысль: а что если межчеловеческие войны еще только начинаются? Такая мысль естественно приходит на ум, когда задумываешься об этом изобретенном сравнительно недавно и доведенном сейчас до невероятной эффективности орудии культивирования страстей, во власть которого люди добровольно отдают себя каждый день, с жадностью поглощая утреннюю прессу.
Мы показали то, что можно было бы назвать совершенствованием политических страстей на поверхностном уровне, в более или менее внешних формах. Но они чрезвычайно усовершенствовались и в своей глубине, в своей внутренней силе.
Прежде всего, они достигли большого прогресса в самосознании. Очевидно, что сегодня (опять-таки во многом благодаря газете) душа, охваченная политической ненавистью, осознает свою собственную страсть, находит для нее словесное выражение, представляет ее себе с ясностью, какой не было пятьдесят лет назад; нет надобности говорить, насколько она ее тем самым оживляет. В связи с этим я хотел бы выделить две страсти, порожденные нашим временем – вызванные не к существованию, конечно, а к самосознанию, самоутверждению, самолюбованию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: