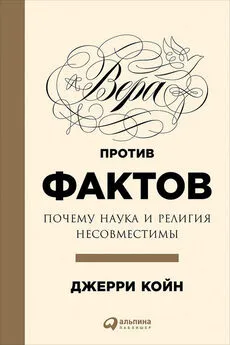Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии
- Название:Наука и религия в современной философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красанд
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-396-00102-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии краткое содержание
В предлагаемой книге ее автор, известный французский философ Э. Бутру (1845–1921), пытается найти пути разрешение конфликта между наукой и религией при помощи противопоставление натуралистического и идеалистического направлений. Во введении дается исторический обзор отношений между религией и наукой с античных времен до современной автору эпохи. В первой части автор подробно разбирает важнейшие натуралистические теории: позитивизм О. Конта, эволюционный агностицизм Г. Спенсера, монизм Э. Геккеля и т. д. Вторая часть посвящена идеалистическому направлению — учениям А. Ричля, У. Джемса и др.
Рекомендуется философам, историкам и методологам науки, студентам и аспирантам гуманитарных вузов, всем заинтересованным читателям.
Наука и религия в современной философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но чувству присущи иные потребности, иные ресурсы, иные дерзания. И если оно первично в такой же и, быть может, еще в большей степени, чем разум, то почему же оно должно ограничить свои проявление формулами, одобренными наукой? Сердце. по самой природе своей есть творец: жизнь, переполняющая его, изливается в образах, в ассоциациях идей, мифах и поэмах. Сделанное средоточием религии и провозглашенное автономным, чувство не могло удовольствоваться тем наследием рационалистического деизма, в котором Руссо видел его собственное подлинное выражение. Гений не может удовлетвориться повторением готовых фраз. Неорганическое вещество в недрах живого организма или уничтожается, или преобразуется таким образом, что само становится живым. То же самое можно сказать и о чувстве, как понимал его Руссо: оно должно заместить своими живыми созданиями застывшие формулы философов. Но этого мало: очевидно, чувство, воцарившись в области религии, не сохранит по отношению к традиционным формам и символам, столь отличным в своем богатстве от философских понятий, той систематической враждебности, к которой пришли рационалисты. Формы эти говорят сердцу н воображению; из потребностей сердца и воображение они как раз и возникли. Каким же образом сердце может отбросить их, не испытав их силы? Признаюсь вам, говорит савойский викарий, что святость Евангелия есть нечто такое, что говорит непосредственно моему сердцу, и мне было бы даже жаль, если бы можно было найти для его истин какое — либо ясное доказательство. Взгляните на книги философов со всею их помпою: как они ничтожны рядом с Евангелием. Вы указываете мне на Сократа, его мудрость, его высокий дух. Какое расстояние между ним и сыном Марии? Если Сократ жил и умер, как мудрец, Иисус жил и умер, как Бог.
Дело Руссо не только в области религии, но также в области политики, морали и воспитания, состояло не в том, чтобы указать конечный пункт, а в том, чтобы наметить пункт отправления. Из идей, вдохновлявших его, возникла впоследствии религиозная реставрация.
Автор „Génie de Christianisme“ является свидетелем и глашатаем этой реставрации по преимуществу. Опираясь на принцип Руссо, на „самодержавие чувства“, Шатобриан включает в индивидуальную и социальную жизнь не только расплывчатые абстракции, так называемой, естественной религии, но также догматы, обряды, традиции католицизма во всей их определенности и конкретности. Он был далек от мысли, что все эти частности надо считать суетными придатками веры, так как они не могут быть выведены из принципов чистого разума; с его точки зрения, всякая деталь внешних проявлений религии, не в меньшей степени, чем ее моральное содержание, служит доказательством ее божественного происхождения, ибо всякая такая деталь поражает воображение и сердце, очаровывает, волнует, утешает, смягчает, укрепляет, вдохновляет душу человеческую. Нисходить от следствия к причине, вот та дорога, которую мы должны избрать в настоящее время, говорит он; следует доказывать не то, что христианство прекрасно, так как оно исходить от Бога, а то, что христианство исходит от Бога, так как оно прекрасно. Поэзия колоколов есть аргумент более сильный, чем силлогизм, ибо она чувствуется и переживается, тогда как силлогизм оставляет нас равнодушными.
Но что же представляют из себя все эти обряды, чарующее и благодетельное влияние которых нам описывают с таким красноречием? Стоят ли они, по крайней мере, в связи с некоторыми истинными и реальными объектами? Или же они дают только мнимое удовлетворение нашим желаниям и нашей мечте? Для автора Génie du Christianisme вопрос этот не представляет, очевидно, никакого интереса. Он хочет заставить нас любить христианство ради красоты его культа, ради вдохновение его проповедников, ради добродетелей его апостолов и учеников: чего же больше? И разве сама любовь не есть реальность, быть может, более глубокая и более истинная, чем все остальные реальности? Почему истина, состоящая в том, чтобы находиться в согласии с требованиями любви, жизни, бытия, менее достоверна, нежели те истины, которые оправдываются абстрактными построениями рассудка?
Эти идеи, более или менее ясно осознанные и выраженные, составляли сущность того движения, которое было названо романтизмом. Чувство является здесь единственной нормой; жизнь, сознание, что мы живем и чувствуем, — вот та цель, к которой стремится возвышенный человек. Он избегает абстракций, которые интересны лишь для оголенного разума. Он отдается поэзии, страсти, энтузиазму, всему тому, что заставляет вибрировать его душу. Он любит страдание и слезы, поразительно обостряющие в нем сознание своего я. Его интересуют все проявление жизни в литературе различных народов, в истории различных эпох. Он хочет воскресить, пережить лично мысли и чувства исчезнувших эпох. Он имеет особое пристрастие к религии, которая расширяет его душу, пробуждая и питая в ней муку бесконечного; и если он без сопротивление следует призывам своего воображения, он начинает с особенной симпатией относиться к конкретным и положительным учреждениям религий откровения.
Обладает ли он достаточною смелостью, чтобы, отдаваясь таким образом чувству, восстать против науки? Чистый романтик даже не задает себе такого вопроса. Ученый анализирует и дедуцирует; а он живет, верит и любит. Каким же образом наука может отнять у него его „я“?
Эта точка зрения сказалась на том направлении, которое приняли, особенно во Франции, школьные науки и философия. Под именем т о ч н ы х наук (sciences) с одной стороны, гуманитарных (humanités) с другой воспитание вкуса, чувства и души совершенно отделилось от изучение математики и законов природы. Литература не только довлела себе, но охотно приписывала себе первенство перед всем остальным, так как человек, его сердце, его жизнь считались чем-то более высоким, чем природа с ее механизмом.
С своей стороны философия, так тесно связанная с наукой у Платона, Декарта, Лейбница, приняла в школьном преподавании исключительно литературный характер, становилась умышленно сентиментальной, исходя вместе с Шатобрианом из положения, что ценность доктрин измеряется их последствиями благодетельностью или вредоносностью их влияния. Философия гордилась тем, что она якобы поддерживает классическую традицию рационализма и потому высказывалась в области религиозных вопросов очень осторожно; тем не менее фактически она была всецело проникнута религиозным духом, выдавая таким образом те сентиментальные и романтические корни, которые были скрыты под покровом ее благоразумного рационализма.
Эта важная революция, окончательно восторжествовавшая после Руссо, но возникшая раньше него, с пробуждением эллинского мироощущение в противовес абстрактной идеологии, — революция эта не составляла исключительной особенности Франции: с различными видоизменениями она совершилась во всех странах Европы. В особенности оригинальные и обильные плоды принесла она в немецком романтизме, девиз которого можно выразить словами Новалиса: Die Poesie ist das ächt absolut Reelle, t.e. „Поэзия — вот подлинно абсолютная реальность“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: