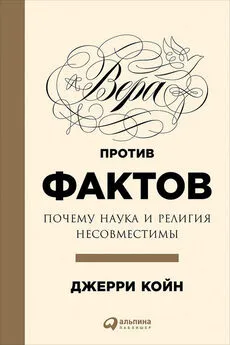Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии
- Название:Наука и религия в современной философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красанд
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-396-00102-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии краткое содержание
В предлагаемой книге ее автор, известный французский философ Э. Бутру (1845–1921), пытается найти пути разрешение конфликта между наукой и религией при помощи противопоставление натуралистического и идеалистического направлений. Во введении дается исторический обзор отношений между религией и наукой с античных времен до современной автору эпохи. В первой части автор подробно разбирает важнейшие натуралистические теории: позитивизм О. Конта, эволюционный агностицизм Г. Спенсера, монизм Э. Геккеля и т. д. Вторая часть посвящена идеалистическому направлению — учениям А. Ричля, У. Джемса и др.
Рекомендуется философам, историкам и методологам науки, студентам и аспирантам гуманитарных вузов, всем заинтересованным читателям.
Наука и религия в современной философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Было бы таким образом чистейшим произволом ухватиться за понятие солидарности, устранив противоположное понятие. Солидарист, действительно избравший науку своей руководительницей, должен не в меньшей степени заботиться о разрушении солидарностей кажущихся и случайных, чем о выяснении солидарностей действительных и глубоких. Ему придется устанавливать отношение независимости и автономии столь же часто, как отношение солидарности и взаимной зависимости.
Но даже осуществив это отделение ложных солидарностей от истинных, солидарист выполнит только подготовительную работу; ибо он не может держаться тех солидарностей, которые даны в природе. Он несомненно хочет блага, справедливости, счастья людей. Что же? Решится ли он восстановить антропоморфический догмат, столь энергично опровергнутый Геккелем, решится ли он допустить, что природа, устанавливая свои виды солидарности, имеет как раз в виду удовлетворить человеческое сознание? Очевидно, солидарист может заимствовать у науки лишь простую рамку, лишь абстрактную форму солидарности. Человек оставляет за собой право вставить в эту рамку то, что удовлетворяет его нравственным потребностям. Он сохраняет значительную долю из того, что доставила ему природа, но лишь постольку, поскольку это заимствование у природы может быть, как говорит Декарт, оправдано на уровне разума.
Мы видим, таким образом, что принцип солидаристов, по-видимому, единый, в действительности является двойственным. Единое слово, как это часто случается, скрывает в себе две идеи. Это с одной стороны солидарность физическая, солидарность данная, безразличная к справедливости, сырой факт, который человек должен оценить со своей человеческой точки зрения; это с другой стороны солидарность нравственная, свободная, справедливая, идея, в которой человек видит предмет, достойный своих усилий, и которую, как все идеи, он может осуществить, лишь пользуясь на свой лад теми материалами, которые он находит в природе.
Другими словами, искомое соединительное звено между наукой и практикой не создается солидаристской системой. Система эта соединяет факт и идею чисто эклектически: назкак их одним именем, утверждает, что они в действительности составляют одно.
Правда, многие возражают на это: неправильно рассматривать нравственную солидарность, как чистую идею, и противополагать ее солидарности физической. Она также есть факт, экспериментальное данное, научная истина, ибо она имеет свой корень в человеческом инстинкте. Она есть лишь восприятие сознанием закона, свойственного человеческой природе, аналогичного законам физики. Человеческий индивидуум, подобно животным, рождается и живет, связанный специальной солидарностью с известными существами. То, что называют моральной солидарностью, есть лишь познание и теория этого вида естественной солидарности.
Постулат, на который опирается такое толкование, есть уподобление сознание зеркалу, не имеющему иных свойств кроме способности пассивно воспроизводить помещенные перед ним предметы. Метафора превращается в теорию. Но в действительности дело обстоит иначе. Человек находит в природе значительное количество весьма разнообразных солидарностей. Между этими солидарностями надо сделать выбор: такие то должны быть расторгнуты, такие то сохранены. Приходится даже вновь создавать солидарности, которые очевидно не даны, как таковые, например, солидарности, основанные на справедливости, на красоте. Разве имели бы место эти усилия, эта борьба, этот благородный неутомимый пыл, если бы все дело состояло в том, чтобы создать нечто данное и поддержать существующее? Очевидно, для того чтобы сделать выбор между данными реальностями, для того чтобы превзойти их, люди обладают или стараются овладеть таким критерием истины и ценности, который не совпадает с самими реальностями.
Откуда же берется такой критерий?
Нам говорят: он порождается инстинктом, сознанием, моральными потребностями человеческой природы, которые также являются фактами нашего опыта.
Здесь раскрывается двусмысленность, лежащая в основе теории. Забывают, что факты фактам рознь. Поднятие ртути в барометрической трубке есть факт, сознание идеи справедливости есть также факт. Но эти два факта совершенно различны по своей природе. Первый может быть сведен к точно определенным, объективным элементам, которые всеми людьми будут восприняты одинаково; совокупность таких элементов и есть то, что мы называем научным фактом. Второй есть представление идеального предмета. Правда он содержит в себе объективный элемент, а именно наличность в мыслящем субъекте известной идеи или скорее известного чувства. Но не на этот элемент обращено здесь внимание. В нас есть тысячи других чувств, которым мы придаем различную ценность: дело идет о том, чтобы обеспечить данному чувству преобладание над другими. Здесь апеллируют следовательно не к чувству, как таковому, а к той цели, которой оно может служить: справедливости, доброте, человечности, идеальной солидарности. Но справедливость и доброта не суть объективные и научные факты. Это непосредственные, субъективные, не анализированные представления, — прямая противоположность научным фактам. Это сырые, необработанные психические образования, совершенно подобные тем, которые наука считает своей обязанностью критиковать и по возможности сводить к точным и измеримым элементам. Мало того, данные эти — если только верить сознанию, на которое в данном случае как раз и хотят опереться— несводимы к научным фактам, так как они выражают собой претензию человеческого духа исправить реальность и предложить исследованию науки будущего такие факты, которые современная наука не в состоянии предвидеть.
После длинных и ученых скитаний мы опять подошли к тому пункту, на котором остановился Геккель. Чтобы удовлетворить одновременно требование науки и требования моральной природы человека, Геккель присоединил к Дарвину Гете, к struggle for life культ истины, красоты и добра; и система его, именуемая монистической, стала дуалистичной. Для достижения желанного единства, так называемая научная мораль была провозглашена синтезом познание и практики; но пока этой формулой ничего не достигнуто кроме сближение двух слов.
Или мы придерживаемся науки, науки достойной этого имени, — и тогда мы не найдем дороги в морали, или мы исходим из моральных требований человека, и тогда мы не в состоянии соединиться с наукой. Не достаточно дать себе имя, чтобы заслужить его.
Невольно возникает мысль, что в данном случае дуализм, в который поминутно впадают, несмотря на все усилия превзойти его, присущ самой постановке вопроса. Постановка эта очень ярко формулирована Геккелем: удовлетворить при помощи науки как практические, так и теоретические потребности человеческой природы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: