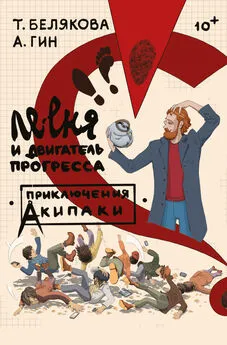Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса
- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-397-01701-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание
Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.
Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.
Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.
Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.
Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все искусства сделали подобные же успехи в средневековых городах, и наши теперешние приобретения в этой области в большинстве случаев являются лишь продолжением того, что выросло в то время. Благосостояние фламандских городов основывалось на выделке тонких шерстяных тканей. Флоренция, в начале четырнадцатого века, до эпидемии «черной смерти» (чумы), выделывала от 70 000 до 100 000 кусков шерстяных изделий, оценивавшихся в 1 200 000 золотых флоринов [279]. Чеканка драгоценных металлов, искусство отливки, художественная ковка железа — были созданием средневековых гильдий (мистерий), которые достигли в соответствующих областях всего, чего можно было достигнуть путем ручного труда, не прибегая к помощи могучего механического двигателя. Ручного труда — и изобретательности, так как, говоря словами Ювелля, «Пергамент и бумага, печатание и гравировка, усовершенствованное стекло и сталь, порох, часы, телескоп, морской компас, реформированный календарь, десятичная система, алгебра, тригонометрия, химия, контрапункт (открытие, равнявшееся новому созданию в музыке), — все это мы унаследовали от той эпохи, которую так презрительно именуют периодом застоя» [280].
Правда, как заметил Ювелль, ни одно из этих открытий не вносило какого-нибудь нового принципа; но средневековая наука сделала нечто большее, чем действительное открытие новых принципов. Она подготовила открытие всех тех новых принципов, которые известны нам в настоящее время в области механических наук: она приучила исследователя наблюдать факты и делать из них выводы. Тогда создалась индуктивная наука, и хотя она еще не вполне уяснила себе значение и силу индукции, она положила основание как механике, так и физике. Франсис Бэкон, Галилей и Коперник были прямыми потомками Роджера Бэкона и Майкеля Скота, как паровая машина была прямым продуктом исследований об атмосферном давлении, произведенных в итальянских университетах, и того математического и технического образования, которым отличался Нюренберг.
Но нужно ли в самом деле еще распространяться и доказывать прогресс наук и искусств в средневековом городе? Не достаточно ли просто указать на соборы в области искусства, и на итальянский язык и поэму Данте в области мысли, чтобы сразу дать меру того, что создал средневековый город в течение четырех веков своего существования?
Нет никакого сомнения — средневековые города оказали громаднейшую услугу европейской цивилизации. Они помешали Европе дойти до теократических и деспотических государств, которые создались в древности в Азии; они дали ей разнообразие жизненных проявлении, уверенность в себе, силу инициативы и ту огромную интеллектуальную и моральную энергию, которой она ныне обладает и которая является лучшей порукой в том, что европейская цивилизации сможет отразить всякое новое нашествие Востока.
Но почему же эти центры цивилизации, пытавшиеся найти ответы на самые глубокие потребности человеческой природы и отличавшиеся такой полнотой жизни, не могли продолжать своего существования? Почему же в шестнадцатом веке их охватила старческая дряблость, и почему, после того, как они отразили столько внешних нападений и сумели черпать новую энергию даже из своих внутренних раздоров, эти города, в конце концов, пали жертвой внешних нападений и внутренних усобиц?
Различные причины вызвали это падение, причем некоторые из них имели свой корень в отдаленном прошлом, тогда как другие были результатом ошибок, совершенных самими городами. Толчок в этом направлении был дан сперва тремя нашествиями на Европу: монгольским на Россию, в тринадцатом веке, турецким на Балканский полуостров и западных славян, в пятнадцатом веке, и нашествием мавров на Испанию и южную Францию уже с IX по XII век. Остановить эти нашествия оказалось очень трудно; отогнать же монголов, турок и мавров, утвердившихся в различных частях Европы, удалось только тогда, когда в Испании и Франции, Австрии и Польше, в Украине и в России мелкие и слабые князья, графы, герцоги и т. д., покоряемые более сильными из них, начали складываться в государства, способные двинуть против восточных завоевателей многочисленные полчища.
Таким образом, в конце пятнадцатого века в Европе начал возникать ряд небольших государств, складывавшихся по древнеримскому образцу. В каждой стране и в каждой области который-нибудь из феодальных владельцев, более хитрый чем другие, более склонный к скопидомству, а часто и менее совестливый, чем его соседи, успевал приобрести в личное владение более богатые вотчины, с большим количеством крестьян в них, а также собрать вокруг себя большее количество рыцарей и дружинников и скопить больше денег в своих сундуках. Такой барон, король или князь обыкновенно выбирал для своего местожительства не города, управлявшиеся вечем, а группы деревень, с выгодным географическим положением, еще не освоившиеся с порядками свободной городской жизни — Париж, Мадрид, Москва, ставшие центрами больших государств, были именно в таких условиях; и при помощи крепостного труда он создавал здесь королевский укрепленный город, в который он привлекал, щедрою раздачею деревень «в кормление», военных сподвижников, а также и купцов, пользовавшихся покровительством, которое он оказывал торговле.
Так создавались, пока еще в зачаточном состоянии, будущие государства, которые и начинали понемногу поглощать другие такие же центры. Законники, воспитанные на изучении римского права, охотно стекались в такие города: упрямая и честолюбивая раса людей, выделившихся из горожан и одинаково ненавидевших как высокомерие феодалов, так и проявление того, что они называли беззаконием крестьянства. Уже самые формы деревенской общины, неизвестные их кодексам, самые принципы федерализма были ненавистны им, как наследие «варварства». Их идеал был цезаризм, поддерживаемый фикциею народного одобрения и — особенно — силою оружия; и они усердно работали для тех, на кого они полагались, для осуществления этого идеала [281].
Христианская церковь, раньше восстававшая против римского права, а теперь обратившаяся в его союзницу, работала в том же направлении. Так как попытка образовать теократическую империю в Европе, под главенством папы, не увенчалась успехом, то более интеллигентные и честолюбивые епископы начали оказывать теперь поддержку тем, кого они считали способными восстановить могущество царей Израиля и константинопольских императоров. Церковь облекла возвышавшихся правителей своей святостью; она короновала их, как представителей Бога на земле; она отдала им на службу ученость и государственные таланты своих служителей; она принесла им свои благословения и свои проклятия, свои богатства и те симпатии, которые она сохранила среди бедняков. Крестьяне, которых города не смогли или не захотели освободить, видя, что горожане не в силах положить конец бесконечным войнам между рыцарями — за которые крестьянам приходилось так дорого расплачиваться, — теперь возлагали свои надежды на короля, на императора, на великого князя; и помогая им сокрушить могущество феодальных владетелей, они, вместе с тем, помогали им в установлении централизованного государства. Наконец, войны, которые пришлось вести в продолжение двух веков против монголов и турок, и священная война против мавров в Испании, а равным образом и те страшные войны, которые вскоре начались среди каждого народа между выраставшими центрами верховной власти: Иль-де-Франсом и Бургундией, Шотландией и Англией, Англией и Францией, Литвой и Польшей, Москвой и Тверью, и т. д., вели, в конце концов, к тому же. Возникли могущественные государства, и городам пришлось теперь вступать в борьбу не только со слабо связанными между собою федерациями феодальных баронов или князей, но и с могуче-организованными центрами, имевшими в своем распоряжении целые армии крепостных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
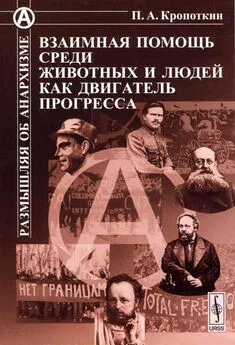





![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)