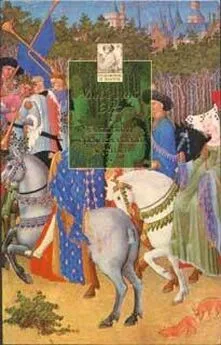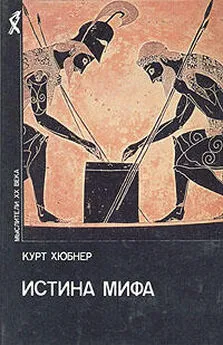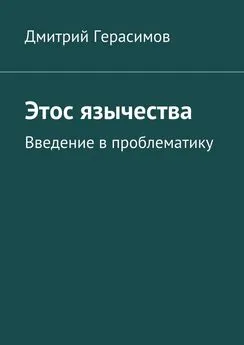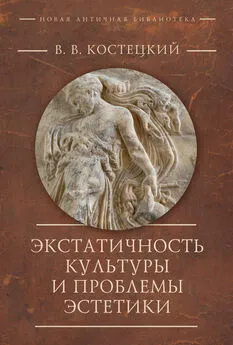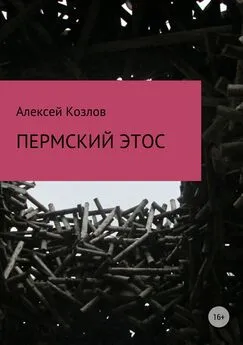БЕННО ХЮБНЕР - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ
- Название:ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БЕННО ХЮБНЕР - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ краткое содержание
Книга представляет собой критику априоризма в этике. По мнению автора, долженствование не предшествует хотению ни в случае отдельного человека, опосредованного и итерсубъективной сферой языка (Апель), ни вне человека (Хёсле) Сегодня этический дефицит компенсируется преимущественно эстетически: если истины уже не очаровывают, истиной становится очарование.Но тогда возникает вопрос, не основываются ли сам этос и этическое в эстетическом. Ведь этос и смысл могли контитуироваться лишь там, где людям с их мега-физической потребностью казалось разумным расходовать себя ради Другого.Существование Другого,этоса как "обещания счастья" (la promesse du bonheur) было возможно лишь благодаря "счастью обещания" (le bonheur de la promesse), т.е., благодаря эстетическому феномену.
ISBN985-6329-40-X
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
27Tugendhat E. Vorlesungen über Ethik. S. 62.
28Должное духовно освобождает от принятия решений и означает: быть-обязанным, мочь-не-решать, быть-вне-себя. По-моему,
[52]
для того чтобы человек хотел быть обязанным, имеются два основания: эк-зистенциальное и прагматическое, или полезно-практическое В первом случае дело касается мета-физического вопроса о СМЫСЛЕ: « куда ?»; во втором - вопроса « как » должно поступать в определенных ситуациях по отношению к людям и вещам.
29Nietzsche F. KSA. Bd. 5. München; Berlin; New York. S. 339. Ha мои взгляд, следует в ироническом ключе понимать то, что Ницше в «Свободе и несвободе воли» (см.: KSA. Bd. 11. S. 275) при решении проблемы просто выводит ее из игры, поясняя, что никакой воли нет.
30Nietzsche F. KSA. Bd. 12. S. 236.
31Ibid. Bd. 13. S. 44.
[53]
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ: ОБРЕЧЕННЫЙ НА КРАСОТУ
Продолжим, оставаясь с Ницше: «Недостойно какому-нибудь философу говорить, что добро и красота едины, но если затем он добавляет, "и истина", то вполне достоин избиения. Истина отвратительна, искусство у нас для того, чтобы не погибнуть от истины» 1. Я не знаю, какую истину имеет в виду Ницше: метафизическую, Бога? Не так уж много того, о чем можно говорить как об истине: истина потустороннего, «истина бытия» (Хайдеггер), истина абсолюта. Можно ли говорить также об истине природы, об истине жизни? Какой в этом смысл?
У меня есть подозрение, что истину в субстанциальном смысле относят преимущественно к чему-то такому, что уклоняется от нашего восприятия, что вообще уклоняется от нас и о чем мы тем не менее думаем, будто бы оно есть. Вот и Хайдеггер, который на протяжении жизни преследовал бытие, неотступно кружил мыслью вокруг «истины бытия»: достиг ли он «истины бытия», открылась ли она ему? Мало что можно предпринять с понятием истины, которое эмфатически субстантивируется как раз там, где онтологичность, приписанная ей, сомнительна. Громкость и навязчивость обозначения прямо пропорциональны сомнительности и неопределенности обозначаемого. Я скорее соглашусь на прилагательное «истинный» (в смысле правильности или неправильности) в высказывании о чем-либо.
Однако вернемся к Ницше. Он говорит об отвратительной истине, которой противопоставляет искусство, чтобы не погибнуть от нее. Я могу понять Ницше лишь так, что истину Бога, которая всегда являет со-
[54]
бой также добро и красоту, он отрицает как отвратительную и противопоставляет ей искусство, чтобы не погибнуть. Не должен ли он, радикализируя нигилизм, вовлекающий все в свой водоворот, подразумевать под отвратительностью истины мир вообще и наше бытие-в-мире? Ведь в другом месте он говорит так: «существование и мир в целом имеют оправдание лишь как эстетические феномены» 2. Этими положениями определяется программа модерного и, на мой взгляд, пост-модерного искусства, равно как и эстетики вообще. Они в какой-то мере легитимируют искусство, которое не обязано ничего и никому, никакой истине, ничему над собой и вне себя, но только себе самому. Искусство, если угодно, само становится истиной. Оно становится наивысшей ценностью, перед которой все другие ценности меркнут. Чтобы не погибнуть, человек нуждается в искусстве. Искусство как спасение. «Искусство и ничего кроме искусства. Оно - великий даритель возможностей жизни, великий соблазнитель к жизни, великий стимул к жизни...» 3Все, что после Ницше было еще сказано об искусстве и эстетике, о функции искусства для автономного мета-физического а-этического человека (в смысле этоса), не выходит за пределы им сказанного, но снова и снова возвращается к нему. Лиотар, как, пожалуй, наиболее последовательный преемник ницшеанской эстетики, в рамках неудержимого процесса нигилизма в западном мире тоже видит задачу искусства в том, чтобы оживить, аффицировать мертвую западную душу, anima morte ,красками, ароматами, запахами, звуками («стимуляция» у Ницше, посредством которой он взорвал избыточную формулу l'art pour l'art* ).«Anima, — говорит Лиотар, — существует лишь постольку, поскольку ее аффицируют» 4. Такие
* Искусство ради искусства (фр ). [55]
призывы к заботе об одинокой, безбожной, нигилистичной западной душе вовсе не удивительны, но вполне согласуются с логикой ситуации: эстетические вдохновители и массажисты души приходят на смену замещающим Бога священникам и сами становятся земными богами, а благополучие души западного человека зависит ныне от деятелей искусства и эстетических мыслителей. Искусство, ставшее религией, культ искусства известны еще со времен Гете и Шиллера. И в культе художника-гения, creator ex nihilo* ,творящего уникальные события на холсте или еще где-то и как-то, включается в игру что-то кроме рецепции и воздействия произведения на воспринимающего наблюдателя, читателя и слушателя. Я бы сказал, что это — страсть почитания, трансцендирования и идентификации, идолопоклонство перед всем, что способно очаровать нашу бедную душу, пленить наше одинокое Я; и это выходит за пределы искусства в просторные области всей нашей культуры отвлечений, развлечений и времяпрепровождения. Но уже Гегель сказал о том, что «на идеальной почве искусства... нужда жизни уже устранена» 5и потому приравнивание художника Богу невозможно, ибо художник «не обладает субстанциальным интересом» «в истине и нравственности» 6: «И теперь такая виртуозность иронически-художественной жизни постигает саму себя как божественную гениальность, для которой все и вся есть только лишенная сущности тварь, совершенно безразличная для свободного творца, который знает прежде всего себя, целиком и полностью, абсолютно свободно творя и уничтожая одно и то же. Тот, кто занимает такую позицию божественной гениальности, свысока взирает на всех остальных людей, которых он принимает за ограниченных и пошлых,
* Творящий из ничего (лат.).
[56]
ибо для них право, нравственность и т. п. кажутся все еще неизменными, обязательными и существенными» 7. Гегель последовательно критикует Жана Поля: «Особенно у Жана Поля одна метафора, едкая ирония, шутка, сравнение убийственны: не видно ничего достойного быть, все идет прахом» 8. Я делаю акцент на цитатах, а не на авторах и философиях, из которых взяты эти цитаты, и, упрощая сказанное, замечу, что приведенные цитаты маркируют в современных эстетических дебатах две противоположные позиции: эстетику очарования versus* эстетики истины, или наоборот. Эстетика истины (Лукач, Адорно, Боорер, Бюгер и, пожалуй, Веллмер) представлена в качестве эстетики, которая пытается преодолеть субъект-объектную расщепленность, т. е. пытается этически вплести индивидуума в ткань общества, в мир, безусловно, критически, ибо некритические идеологические эстетики почитания, например, национал-социализм, тоталитарный социализм уже passe**. Эстетика очарования (Лиотар, Вельш), равно как и эстетика «интенсивностей» (Лиотар) 9, имеют место тогда, когда эмфатизация эстетического является непосредственным следствием анестезии от этического, а также от общественно-политического. Поэтому необходимость такой эстетики обоснована солипсическим, омфалоскопическим состраданием самому себе (Selbstmitleid) и коренится в нигилистичной западной душе, требующей вызволения. В какой степени как раз эта «аффирмативная*** эстетика» 10, как ее называет Лиотар в противоположность «негативной эстетике» Адорно, способствует также утверждению господствующей системы, т. е. демок-
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: