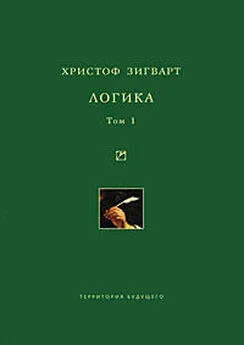Христоф Зигварт - Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе
- Название:Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:5-91129-004-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Христоф Зигварт - Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе краткое содержание
В издание входит учение о суждении, понятии и выводе.
«Последующее являет собой попытку построить логику с точки зрения учения о методе и тем поставить ее в живую связь с научными задачами современности. Пусть само выполнение послужит оправданием этой попытки, и этот первый том, возможно, самым тесным образом примыкая к традиционному облику науки, содержит в себе подготовление и основоположение к этому выполнению». (Христоф Зигварт)
Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
7. Обратим внимание на то, как ребенок приобретает – почти исключительно чувственные – представления, которые принадлежат к его первым словам и делают возможными его первые суждения. Представления ребенка относятся всегда к тому единичному наглядному представлению о вещи или о событии, которое называется ему. В отдельных случаях возникает первое понимание. Но чем менее искусно его понимание, чем менее подготовлено оно богатством уже имеющихся налицо представлений, тем менее наглядный образ, входящий в воспоминание и позднее воспроизводимый вместе со словом, может быть верной и исчерпывающей копией самой чувственно данной вещи, тем менее может он содержать все то, что могло бы быть воспринято в объекте. Даже то, что взрослый обыкновенно видит в действительности в данном ему объекте, что он включает в свое наглядное представление, а затем и в свое воспоминание, – даже это, если он не опытный наблюдатель, остается далеко позади самого объекта. Тем более то, что остается от отдельного увиденного объекта в начале изучения речи, может быть лишь грубой, неясной копией вещи, в которой, как в неотделанном рисунке, обозначаются лишь наиболее выпуклые черты. Так что в большинстве случаев мы не может даже знать, какой, собственно, образ связывает теперь ребенок с услышанным словом. Если появляется наглядное представление, сходное с тем, какое он действительно удержал, то тут вовсе нет тех условий, при которых можно было бы воспринять разницу между прежним и теперешним объектом; слияние происходит непосредственно и выражается в том, что новое наименовывается заученным именем. Привычка детей называть тем же самым именем даже отдаленно сходное, если только оно сходно в верно схваченных чертах или в той или другой из них, – этой привычкой объясняется их искусство обходиться немногими словами. Этим объясняются, с одной стороны, часто поразительное остроумие детского языка, с другой – те бесчисленные смешения, какие, по нашему мнению, постигают их. Совершаемый ими прогресс заключается не в том, что новое они подводят под уже знакомые представления, а в том, что они научаются более совершенному пониманию и более точному разграничению 11.
8. Итак, для нашего индивидуального мышления в начале его развития значение всякого слова связывается с единичным наглядным представлением; тем более что между единичным представлением и общим представлением нет даже никакой разницы. Образ воспоминания, остающийся от первого несовершенного схватывания объекта, не лежит в душе, словно какой-то неизменный оттиск; его воспроизведение есть новая деятельность. И там, где мы говорим об образах и представлениях как о неизменных вещах, покоящихся в руднике нашей памяти, – там мы должны были бы, собственно, говорить о приобретенных и заученных привычках и навыках акта представления. И привычки, и навыки эти не исключают того, что при всяком воспроизведении могут происходить более легкие или более глубокие изменения деятельности, а следовательно, и ее продукта. Как часто случается нам убеждаться на опыте, когда после сравнительно долгого времени мы вновь видим знакомый предмет, дом или пейзаж и т. д., что все это выглядит совершенно иначе, чем это было у нас в памяти. Эта ненадежность образа воспоминаний наряду с тем общим законом, который Бенеке удачно назвал законом притяжения однородного, достаточна для того, чтобы образ воспоминания соединялся с целым рядом новых образов и приобретал, таким путем, функцию общего представления. Процесс непрестанного наименования новых вещей – остановимся прежде всего на именах существительных – с одной стороны, укрепляет выдающиеся и общие черты, а с другой – самый образ в этом процессе становится текучим и подвижным. Так что на первый план может выступать то одна, то другая его черта, которая и определяет новые ассоциации. Поэтому в естественном течении мышления все слова стремятся расширить свою область; их границы неопределенны, и всегда они готовы распахнуться для новых родственных представлений. И расширению этому непрестанно благоприятствует то обстоятельство, что в новых предметах всегда легче всего наблюдается и схватывается то, что оказывается сходным с какой-либо уже знакомой схемой. Мы всегда, так сказать, как бы накладываем на вещи свои готовые образы и тем закрываем для себя в них новое и отличное.
Но наряду с этим процессом совершается другой процесс. С возрастающей практикой понимания мы начинаем обращать внимание не только на разительные черты, но также и на менее выдающиеся. Благодаря этому образы становятся более определенными, более богатыми содержанием – и в той же мере, с одной стороны, ограничивается область их применения к новому, а с другой – вместе с возрастающей способностью различать их увеличивается их число. Различение это сравнивает целое с целым. Тут нет того, чтобы сперва мы давали себе отчет в том, к чему сводится в единичном различие, и мы не отделяем сознательно особо сходные, особо отличные признаки. Напротив, мы непрестанно совершенно точно различаем незнакомых людей от знакомых, и в то же время мы не сознаем, чем , собственно, они отличаются друг от друга. Именно благодаря такому не проанализированному сложному впечатлению, обладающему характером непосредственности чувствования, мы получаем возможность признавать знакомое как таковое и о незнакомом высказывать суждение, что оно не есть-де что-либо знакомое.
Внимание и точность схватывания у человека меньше определяются многочисленностью наблюдений, нежели его интересами. Образы того, что его радует или страшит, что связано с его потребностями и побуждениями, отпечатываются в его памяти со всеми своими деталями. То, что для него безразлично, – этого он не старается даже точно схватить, это оставляет в нем лишь неясное впечатление о наиболее выпуклых чертах, и впечатление это в самых широких пределах может сливаться с подобным ему.
Так объясняется то, каким образом человек может быть одновременно заполнен и более определенными, более богатыми содержанием образами, и образами менее определенными, сравнительно легко исчезающими; каким образом могут они сочетаться с его словами. Он дает имя, например, курице, которая несет ему яйца; воробью, который досаждает ему в его саду; аисту, который свивает себе гнездо на его крыше. Все остальное есть птица, и он не заботится о различиях отдельных видов. Но столь же мало сознает он, что представление «птица» в своей неопределенности охватывает также и специально известные виды. «Это не птица, это курица», – так говорят не одни только дети. Там, где нет никакого интереса различать вещи, – там оказывается достаточным менее определенный, более бедный образ, который заимствован лишь от главных черт формы и полета. Образ этот распространяется на летающего жука и на бабочку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: