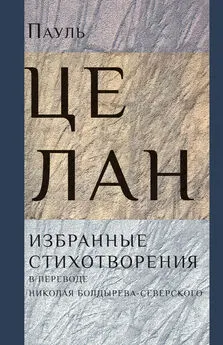Пауль Наторп - Избранные работы
- Название:Избранные работы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-043-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пауль Наторп - Избранные работы краткое содержание
Настоящее издание составлено из дореволюционных переводов Пауля Наторпа. В него тем не менее не вошли (в силу ограниченного объема издания) ряд других существующих русских переводов. Важнейшим из них является уже упоминавшаяся «Социальная педагогика». На русский язык была переведена также книга о Песталоцци и работа по логическому обоснованию математики и математического естествознания. Лучшим введением в круг идей марбургских неокантианцев на русском языке до сих пор остается, на наш взгляд, соответствующий раздел в цитировавшейся книге грузинского философа Константина Спиридоновича Бакрадзе. Из немецких источников можно рекомендовать обобщающую работу о неокантианстве Ганса Людвига Олига, а среди значительных исторических исследований – книгу Клауса Христина Кёнке о возникновении неокантианства.
Избранные работы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Допущение, что такой метод вообще возможен, составляет основную мысль той философии, которую открыл или, вернее, создал Платон, философии идеализма, которая заключается в основном воззрении, что только собственные законы самообразующегося духа могут быть теми законами, по которым строится мир или, вернее, различные миры объектов, мир природы – точно так же, как и мир нравственный, и мир искусства. Если бы дело обстояло иначе, если бы образование этих внутренних миров зависело от вещей, которые находятся вне и до всякого сознания и только извне дают ему знать о себе, тогда была бы тщетной всякая попытка найти «путь» духовного образования для самого себя и указать его другим. Тогда совсем не существовало бы того, что можно было бы назвать таким путем; вещи сами делали бы все, и мы должны были бы держаться по отношению к ним в чисто выжидательном положении, потому что никоим образом нельзя бы было предвидеть, чего только они еще не вложат в нас. Но тогда все по необходимости оставалось бы для нас хаосом. Пусть сам по себе он был бы стройно упорядоченным миром, но если бы мы не были в состоянии заранее мысленно постигнуть его законы и сознать его как нам закон, то он оставался бы для нас, для нашего познания недействительным и для нас это было бы то же самое, как если б его не было совсем. На нас обрушивались бы только все новые и новые впечатления, которые оставались бы для нас без всякого отношения друг к другу и должны были бы так же быстро исчезнуть, потому что только благодаря отношению мы в состоянии их «сохранить», а отношение существует для нас лишь постольку, поскольку мы сами установили его. Отношение есть вообще работа нашего «рассудка»; «относить» – это и только это значит «понимать»; понято то, что поставлено в отношении. Все выражения, обозначающие понимание – понятие, суждение, умозаключение, доказательство и все остальное, что логика выставляет, как элементы понимания, – все это только выражения самых разнообразных видов отношения, которые и составляют понимание.
Внутреннее состояние новорожденного охотно представляют себе как состояние внутреннего хаоса, в котором без всякого порядка протекают одно за другим тысячи впечатлений и ничего не обрисовывается с определенностью, приблизительно так, как древние представляли первоначальную стадию внешнего космоса. Измышление космического хаоса есть в конце концов только перенесение наружу того, что, кажется, было пережито во внутреннем мирообразовании. Кажется, что здесь из хаоса образуется стройный мир таким образом, что сначала выделяется один элемент, затем другой, третий и т. д. и каждый приспособляется ко всем другим и как бы становится в общий строй. Так приблизительно описывает генезис познания Аристотель. Но в конце концов эта внутренняя космогония есть в такой же мере только наивный вымысел, как и внешняя. Пытаясь представить себе с точки зрения нашего, до известной степени развитого, сознания начальные ступени этого самого нашего сознания, мы мысленно вносим в первоначальную стадию многое такое, чего бы никогда не нашли там, если бы действительно оказались на этой стадии. В сущности, мы представляем себе наш теперь готовый мир снова превратившимся в развалины, другими словами, мы в мыслях ставим груду развалин на то место, где на самом-то деле только должно начаться все построение; потому что мы действительно вынуждены мыслить наш готовый мир сначала опять распавшимся, чтобы перенестись при наших теперешних условиях в искомый начальный пункт познания. Но ребенок ничего не знает об этом нашем мире – ни о существующем в виде законченного целого, ни о превращенном в развалины, но он должен еще начать его создание с самого начала. Для этого дела он приносит с собою чрезвычайно деятельные силы; с самой ранней стадии мы видим его полным творческой деятельности; в самом деле, в элементарнейшей области он уже фактически выполняет все те основные функции мышления, которые мы выполняем более сложным образом над более сложным материалом. Он еще должен сначала установить все эти отношения, которые мы, как нам кажется, находим уже вполне готовыми, но которых мы себе не могли бы даже и представить, если бы они не были первоначально установлены нами самими, мыслящими согласно первоначальным законам нашего мышления.
Развитие этих первоначальных законов есть задача логики, поскольку дело касается теоретического познания, этики — поскольку оно касается практического познания, эстетики, поскольку – эстетического. Правда, очень распространено мнение, что именно это и составляет задачу психологии. Но на самом деле вопрос здесь ставится не о процессах, не о переживаниях познания, но о содержании, именно об основных отношениях, из которых вообще слагается всякое духовное содержание. Уже само понятие «содержание» обозначает единство многообразного, достигнутое посредством отношения. Временной порядок, в котором совершается это отношение отнюдь не есть первое, что подлежит исследованию, так как само время возникает лишь из последовательности ступеней, на которых между содержаниями устанавливаются разнообразные отношения. Первоначально не сознание дано во времени, но время в сознании, и для того, чтобы обоснование было радикальным, наше исследование должно дойти до того первоначального пункта, где еще совсем нельзя предположить никакого временного процесса в сознании. Следовательно, последнее радикальное обоснование метода, во всяком случае, не может быть психологическим.
Зато вполне правильно, что без отношения к времени закон метода не может стать педагогическим законом, ибо ход образования в самом деле не может быть описан иначе, как во времени, следовательно, психологически. Но последняя основа этого психологического описания сама относится к области логики или же этики и эстетики. В отношении к мышлению в более узком смысле этого слова эта мысль получает все большее и большее признание. Но ее следовало бы применить уже к простому восприятию. Именно для целей педагогики должно быть понято с полной ясностью, что уже построение мира восприятий есть, по существу, логическая работа, руководимая теми же последними законами, что и развитое мышление. Восприятие это только развивающееся, т. е. творческое мышление. Мышление в отличие от восприятия есть в действительности, как это правильно выражает наш язык, только размышление, рефлексия, косвенное рассуждение, обдумывание, которое необходимо опирается на непосредственное мышление, т. е. на первоначальное созидание чувственного предмета, что мы обыкновенно и называем восприятием. На языке Канта это последнее составляет «синтетическую» работу мышления, а все остальное только «аналитическую», которая предполагает и в обратном виде выражает синтетическую, ибо «где рассудок раньше ничего не соединил, там он ничего не может и разложить», и это разложение не может сделать ничего больше, как только привести к ясному сознанию раньше произведенную связь. Разложение ведь не означает упразднения, уничтожения произведенных соединений, но только пристальное рассмотрение подобное тому, как если бы мы, по удачному сравнению Мендельсона, рассматривали предмет через увеличительное стекло. При этом части, которые раньше, казалось, сливались друг с другом, так что способ их соединения оставался неразличимым, выступают в определенном различии. Огромная ценность этого состоит в том, что связь, и именно определенный вид связи, не исчезает уже более из сознания, но с полной ясностью продолжает сознаваться как таковой. Синтетическая, т. е. творческая, деятельность мышления протекает на самых ранних стадиях без рефлектирующего сознания, без ретроспективных и обозревающих взглядов, которые на более простых стадиях мышления и не особенно нужны, но становятся все более необходимыми при его более высоких и более сложных операциях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: