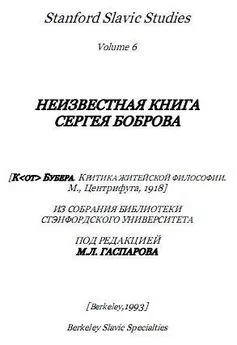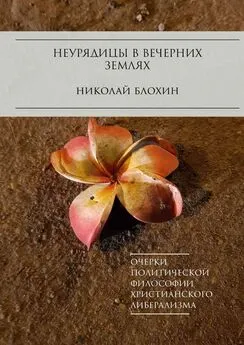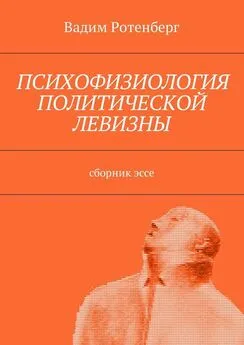Борис Капустин - Критика политической философии: Избранные эссе
- Название:Критика политической философии: Избранные эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-059-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Капустин - Критика политической философии: Избранные эссе краткое содержание
В книге собраны статьи по актуальным вопросам политической теории, которые находятся в центре дискуссий отечественных и зарубежных философов и обществоведов. Автор книги предпринимает попытку переосмысления таких категорий политической философии, как гражданское общество, цивилизация, политическое насилие, революция, национализм. В историко-философских статьях сборника исследуются генезис и пути развития основных идейных течений современности, прежде всего – либерализма. Особое место занимает цикл эссе, посвященных теоретическим проблемам морали и моральному измерению политической жизни.
Книга имеет полемический характер и предназначена всем, кто стремится понять политику как нечто более возвышенное и трагическое, чем пиар, политтехнологии и, по выражению Гарольда Лассвелла, определение того, «кто получит что, когда и как».
Критика политической философии: Избранные эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
335
См. «Putney Debates (1647)», p. 305, 307.
336
Левеллер Петти отчетливо выражает эту мысль, тут же социологически специфицируя ее: из политического сообщества англичан должны быть исключены подмастерья, слуги, живущие милостыней и т. д., т. е. все те, кого в гражданском отношении представляют хозяева (буквально: «they are included in their masters»). См. «The Putney Debates, 1647), p. 315. Примечательно, что полтора века спустя логику этих рассуждений повторяет Кант: „.Все те, кто вынужден поддерживать свое существование (питание и защиту) не собственным занятием, а по распоряжению других (за исключением распоряжения со стороны государства), – все эти лица не имеют гражданской личности, и их существование – это как бы присущность". Кант, И. Метафизика нравов в двух частях / Кант, И. Соч. в шести томах. Т. 4. Ч. II. М.: Мысль, 1965, с. 235 и далее. Это свидетельствует о том, что «дебаты в Петни» и в данном случае, как и во многих других, обнаруживают фундаментальную проблему, которая не сходит с «повестки дня» политической теории и практики конституционного государства в течение столетий после Английской революции.
337
По существу о таком слиянии «народа» с «населением» и превращении последнего в ключевое понятие и главный предмет деятельности постполитического современного государства, точнее, «правительственности», как он именует возникающую вследствие такого слияния систему, рассказывает Фуко. См.: Фуко, М. Правительственность / «Логос», 2003, № 4–5.
338
«Народ есть нечто единое, – пишет Гоббс, – он обладает единой волей, ему может быть предписано единое действие». Именно поэтому Гоббс концептуально противопоставляет понятия «народа» и «массы». См. Гоббс, Т. О гражданине / Гоббс, Т. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1964, с. 372. Очень важно иметь в виду то, что такое политическое и специфически современное понимание «народа» диаметрально противоположно той органицистской, партикуляристской, обращенной в досовременное прошлое и неполитической концепции «народа», ассоциируемого прежде всего с языком и «унаследованным правом», которую наиболее отчетливо и впечатляюще представила немецкая Историческая школа права XIX века. Хабермас тонко анализирует концептуальные основания и политико-идеологические импликации этой органицистской версии «народа» и ее оппозиционность «духу Современности». См. Хабермас, Ю. Что такое народ? / Хабермас, Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. Следует заметить, что при таком понимании «народа» «нация» по существу утрачивает самостоятельное категориальное содержание и отождествляется с тем же «народом», но только имеющим «государственное оформление», т. е. существующим в виде особого государства. Приведенная же гоббсовская трактовка «народа» восходит к классическому, античному республиканскому его пониманию, фокусирующему определение «народа» на разумном согласии относительно устоев коллективной жизни и концепции общего блага. См. Цицерон. Государство, кн. 1, XXV, 39 / Диалоги. М.: Наука, 1966, с. 20. Характерно новоевропейским элементом гоббсовского определения «народа» является, конечно же, упор на волю, место которой в античности занимал разум.
339
Популярный солдатский «агитатор» Сексби в отчаянии от бесконечных дебатов восклицает: «…Я скорблю, что Господь помутил [разум] некоторых настолько, что они не могут видеть это [добро]», – которое якобы открыто ему самому и другим представителям народа. Это настолько серьезное обвинение «грандов», предполагающее исключение их из состава «народа», что другой левеллер, капитан Кларк, тут же берет слово и призывает к соблюдению «духа умеренности». См. «The Putney Debates (1647)», p. 306–307.
340
Я не останавливаюсь на том, что и новейшие конституции XX века атрибутируют суверенитет именно народу. Так, статья 1 Конституции Итальянской Республики гласит: «Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в формах и в границах, установленных Конституцией». См. Современные зарубежные конституции, с. 23, 98, 108.
341
Сказанное великолепно иллюстрирует та же французская «Декларация прав человека и гражданина». Заявив о себе как о выражении воли народа, она без каких-либо пояснений и концептуальных переходов в статье 3 объявляет, что «основа всякого суверенитета покоится, по существу, в нации» (курсив мой. – Б. К.). Современные зарубежные конституции, с. 98.
342
Согласно Согомонову, проблема русской нации в том и заключается, что «мы окончательно опоздали с формированием „нации“ в этнокультурном значении, но так и не приступили к формированию «нации» в гражданско-политическом смысле» (с. 170). Мне не понятно, что такое «нация в этнокультурном значении». Если имеется в виду то, что для образования и развития нации используются культурные ресурсы, включая язык, неких традиций, то без этого невозможны никакие нации, даже «гражданско-политические». В то же время коллективы людей, лишенные «гражданско-политического смысла», т. е. не конкретизирующие общий для Современности принцип «верховенства Разума» в виде «народного суверенитета», не есть нации вообще.
343
Я применил термин «кооперация наций» применительно ко всем этим формам государственных образований, имея в виду то, что в истории никакая кооперация не осуществляется в точном соответствии с законами Чистого Разума и потому никогда не бывает полностью свободна от элементов принуждения, обусловленного отношениями власти и соотношением сил ее участников. Априорно невозможно утверждать, что федерации базируются на добровольном согласии в большой мере, чем «империи»: многие федерации, причем игравшие важнейшую роль в истории, такие как США или СССР, создавались и сохранялись в потоках крови, не сравнимых с теми, которые сплачивали некоторые «империи». Однако, несомненно, важно то, какие именно формы и степени принуждения данная эпоха и данная культурная традиция считают – в соответствии со своим историческим разумом – неприемлемыми и потому восстают против них, а какие – приемлемыми и потому отождествляют их с «ненасилием» и «добровольным согласием».
344
См. Хабермас, Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии. В кн. Хабермас, Ю. Политические работы.
345
Я сознательно воздерживаюсь от использования в моей аргументации более радикального тезиса А. Негри и М. Хардта об установлении глобальной «империи» и рассмотрения в логике этой концепции хабермасовских «постнациональных констелляций». См. Хардт, М., Негри, А. Империя. М.: Праксис, 2004.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: