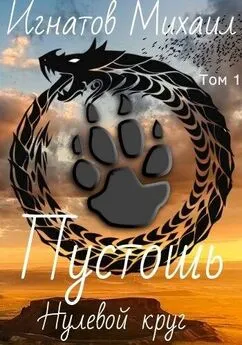Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Название:Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0908-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет краткое содержание
Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой трети XX столетия. Воздействие «Круга Георге» простирается далеко за пределы собственно поэтики или литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, экономику. Своебразное георгеанское толкование политики влилось в жизнестроительный проект целого поколения накануне нацистской катастрофы. Одной из ключевых моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге трактовался как «Платон сегодня». Платону георгеанцы посвятили целый ряд книг, статей, переводов, призванных конкурировать с университетским платоноведением. Как оно реагировало на эту странную столь неакадемическую академию? Монография М. Маяцкого, опирающаяся на опубликованные и архивные материалы, посвящена этому аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на науку о Платоне.
Автор книги – М.А. Маяцкий, PhD, профессор отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ.
Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конкуренция с Вольтерсом стала особо очевидна, когда в одном и том же восьмом выпуске «Листков за искусство» за 1908–1909 год вышли статьи со сходными, если не сказать параллельными, названиями: «Господство и услужение» Вольтерса [19]и «Следование и послушничество» [Gefolgschaft und Jüngertum] Гундольфа. В этих статьях больше сходства, чем различий; тем важнее эти последние. Для Вольтерса главное – власть и добровольное, восторженное ей подчинение; для Гундольфа важна любовь к Мастеру – и не за его власть, а за то, что он ведет к новому познанию. Если Гундольфу Мастер предстает посредником между учеником и Идеей, то для Вольтерса Мастер воплощает Идею. Вольтере со всей риторической мощью настаивал на действии, деянии, на деятельном характере и правителя, и учеников (более чем просто единомышленников – соратников!), тогда как у Гундольфа Мастер остается хранителем ценностей и воспитателем учеников. Наконец, если воспитание увенчивается для Гундольфа расцветом личности, венцом служения у Вольтерса выступает самопожертвование [Selbsthingabe] [20]. Несомненно, таким образом, что Вольтере однозначнее и определеннее вписывал образ Мастера в общий для «консервативной революции» культ вождя.
Так или иначе во втором поколении идея «государства» вызвала ощутимое сопротивление и стала структурирующим принципом лишь в следующем, третьем поколении (Макс Коммерель, братья фон Штауффенберги, Йохан и Вальтер Антон, Вальтер Эльце, Рудольф Фанер, большинство из которых были «завербованы» в Круг Вольтерсом). «Государство», которое в разное время называлось еще «духовная империя» [21], «тайная Германия», «маленький отряд» (или сонм, куча, толпа) [kleine Schar], должно было сложиться вокруг некоего неконфессионального культа, в основе которого лежала убежденность в неоспоримом приоритете поэзии над любой человеческой деятельностью, поэзии, понятой и в узком смысле стихосложения, и в широком – как творчество, воплощение, то есть обращение идеального и предвечного в плоть. Пантеон святых в этой светской религии включал прежде всего поэтов и философов – Платона, Данте, Шекспира, Гёте, Ницше, Гёльдерлина, самого Георге, и великих политических творцов – Цезаря, Фридриха II Гогенштауфена, Наполеона. Подобно гётевскому Вильгельму Майстеру, георгеанцы полагали, что следовало поклоняться, «служить» этим вождям и иконам духовного царства просто в силу императива «почитать – а не пытаться понять – то, что выше тебя». Насколько этот культ духовных и политических вождей предвосхищал (или даже «приближал») грядущий национал-социализм, является одной из самых спорных и сложных проблем георгеанских исследований. Очевидно только, что «политика аполитического» [22], проводимая Штефаном Георге, требовала от него сопротивляться однозначной его аппроприации молодым режимом (так, уже в 1933 году он отклонил «лестное» предложение министерства культов войти в Поэтическую академию), но не запрещала ему иметь в ближайшем ядре Круга откровенных нацистов, пусть и «высокодуховных», и брезгующих плебейскими манерами новых вождей.
Историю коллективного творческого и интеллектуального усилия вокруг Штефана Георге невозможно оторвать от авто-историографии: архивизация, документализация происходящего рано стали в Кругу одержимостью. Зафиксированная по свежим следам в дневниках и письмах, история Круга еще при жизни Мастера стала предметом монументальной монографии, написанной одним из главных идеологов Круга Фридрихом Вольтерсом под прямым контролем Георге. Ее название («Штефан Георге и "Листки за искусство"») сопровождалось подзаголовком: «Немецкая духовная история после 1890 года», несуразный нарциссизм которого дает представление о немалых амбициях Круга и его вождя. Самоархивизация никак не отменяла, а напротив, дополняла культ тайны и понимания с полуслова. Насколько было возможно, Георге избегал и строгой идентификации своей ассоциации. Ее члены предпочитали апофатическое самоопределение: мы не клуб, не салон, не церковь, не секта, не ложа, не кафедра… За этим избеганием, кроме боязни слишком определенной (и поэтому слишком «рассекречивающей») самоидентификации, стояла и трудность самоосознания группы, точных аналогов которой не было ни в Германии, ни, вероятно, нигде в Европе.
Вопрос об уникальности (или, наоборот, типичности) Круга Георге стал принципиальным водоразделом в изучении Круга. Начиная с только что упомянутой автоагиографии, о Георге и его окружении могли писать – разумеется, преимущественно в лестно-верноподданических тонах – только члены Круга, затем их дети, ученики и ученики учеников. Имелось в виду, что только те, кто был приобщен к святая святых, могли претендовать на какое-то адекватное понимание георгеанского духа и буквы. Ситуация стала меняться в 1960-е годы с приходом левой, в том числе марксистской, критики, которая порвала с обязательной «историей изнутри» и считала как раз несвязанность с Кругом условием нелицеприятного объективного анализа.
С эволюцией социального и идейного климата Германии и Европы вообще, но и с физическим умиранием свидетелей «феномена Георге» (а затем и их наследников и преемников) эта тенденция укрепилась. Вряд ли можно считать удивительным, что современные исследователи продолжают спорить с агиографическим самоописанием Круга, отложившимся в сотнях и тысячах опубликованных и неопубликованных свидетельств и продолжающим – несмотря на свою очевидную ненадежность – оставаться важным источником о жизни Круга. Ярким примером такого спора может служить объемное и весьма богатое исследование Райнера Колька «Формирование литературных групп». Подзаголовок книги указывает на сверхзадачу автора: «На примере Круга Георге, 1890–1945 гг.» [23]Заявляется здесь социологический анализ не Круга Георге, а любых литературных объединений на примере Круга Георге. Разумеется, сдержать своего обещания автор не может. Книга целиком посвящена только Кругу Георге, и невзирая на заведомую отстраненность исследователя, усердно подчеркиваемую им в натужном использовании тяжеловесного социологического словаря, демонстративно враждебного выспренной возвышенности георгеанцев, главным результатом исследования оказывается, что разбираемый им пример ничего не доказывает применительно к прочим литературным образованиям, поскольку на них абсолютно не похож. Методологически сходную позицию заявляет в своей недавней статье уже на непосредственно интересующую нас здесь тему Штефан Ребених. То же неудовлетворение «идеографией» угадывается в поставленной им перед собой задачей «на примере восприятия Платона исследовать влияние, оказанное Кругом Георге на науку» [24]. Мы еще сможем убедиться, однако, что Платон стоит в идеологии Круга особняком и составляет принципиально особый случай, в силу чего с трудом может служить примером для других «восприятий».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


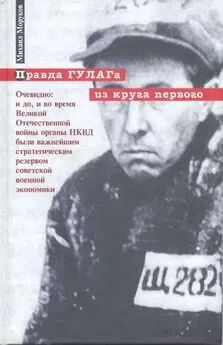

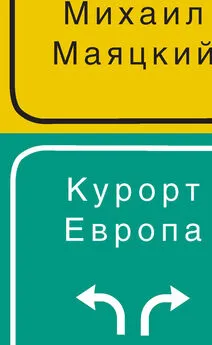

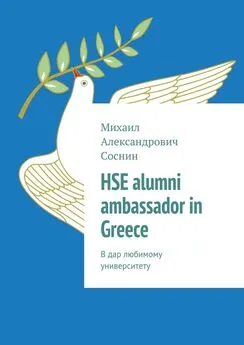
![Михаил Игнатов - Пустошь. Нулевой круг [litres]](/books/1066470/mihail-ignatov-pustosh-nulevoj-krug-litres.webp)