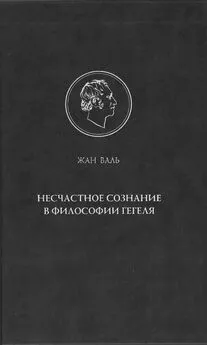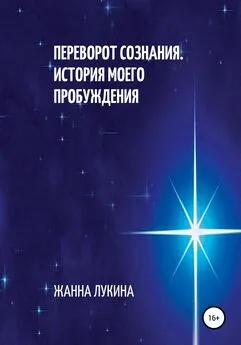Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В таком случае имеется «удивление, пылкое, но лишенное ясности, или сопровождаемое печальной ясностью, так как страсть, напряженность, разделяемая ощущением и рассудком, была частичной, неполной; было обещано нечто божественное, но само обещание исчезает в тот же момент, когда произносится». Здесь мы обнаруживаем идею диалектики чувственного: Бог, совершенно неотделимый от жизни, от чистой жизни, предстает в то же самое время как индивидуальность, противостоящая другим индивидуальностям; он приобрел форму, чтобы выразить свое возмущение против форм, и, подчинившись таким образом судьбе, стал показывать себя в ранах. Чувственное исчезает в силу своей природы, и Бог, если он становится чувственным, тем самым оказывается причастен этой природе. Мы уже обращали внимание на использование Гегелем идеи смерти Бога, столь важной для него начиная с Веры и Разума; кроме того, у нас имеется и идея благоговения (Andacht). И мы видим, что понятие должно воплотиться и не может воплотиться. Размышление о Евхаристии и о несчастном сознании перед Евхаристией должно было продолжиться в размышлении о несчастном сознании перед воплощением. Мы знаем, что наступит момент, когда Гегель поймет, что эта видимость и это разрушение объективности являются необходимыми в понятии (Begriff), что несчастное сознание, видящее такое разделение единых элементов, то есть чувственного и умопостигаемого, будет понятием их единства и будет счастливым сознанием.
Иначе говоря, если любовь выше морали и разрушает сферу нравственности, так же как и нравственность выше господства и уничтожает его, то любовь тем не менее является незавершенной природой, и Гегель понимает под этим, что она может быть счастливой или несчастливой, и то, что он ищет, — это счастливая любовь. Счастливая любовь — это любовь, для которой больше не существует объективности, или, если угодно, которая достаточно широка, чтобы самой быть объективной, не переставая при этом оставаться любовью. Но не прекращающаяся рефлексия вновь идет в наступление, вновь вводит вместе с собой объективность, разрушает счастливую любовь. Так подтверждаются слова Феноменологии : «Сознание жизни — это прежде всего осознание несчастной жизни».
И мы видим новый путь, не отклоняющийся от предшествующих, путь, на котором Гегель вновь обнаруживает проблему несчастного сознания; это сознание, которое осознает запредельное, объективное. Если мы сумеем объединить рефлексию и любовь, превратить, как он скажет позже, самое непосредственное в самое опосредствованное, если сумеем сохранить рефлексию в любви без того, чтобы она неотступно преследовала идею и надежду тех несуществующих земель, которые простираются в запредельном, если нет больше разделения между субъектом и объектом, но только возможность разделения, то мы получим религиозное чувство, совершенство любви. Но Гегель добавляет, что само созерцание не равно самому себе, так как тот, кто воспринимает ограниченное, и получает только ограниченное. Вообще говоря, любое сознание неизбежно не равно самому себе, потому что оно замкнуто в определенных границах. Оно не может быть сознанием бесконечного. Любое сознание является несчастным. Счастье — в бессознательном. [171]Кроме того, истинное милосердие ничего о себе не ведает, так как рефлексия, будучи всеобщностью, добавляет к действию нечто чуждое.
Он пишет: «То, что является наиболее единичным, соединяется в эмоциональном соприкосновении, в чувстве и доходит до бессознательного, до разрушения всякого разделения». Рефлексия предполагает нечто, к чему она применяется и что является потусторонним для рефлексии. Посредством представления об ангельской природе детей, посредством идеи, что мы должны стать как дети, которые постоянно видят лицо Бога, Иисус желал указать на такое примирение, на такое неразвитое, или, скорее, вновь развитое единство, на такое бессознательное ( Bewusstlos ), которое представляет собой бытие и жизнь в Боге. Исчезновение несчастного сознания Гегель представляет как возникновение детского сознания, детского разума, и в этом он сближается и с дионисийским мистицизмом Гельдерлина, и с христианским мистицизмом Новалиса и, между прочим, с пиетизмом в некоторых его формах, а также с мышлением Шиллера: разум детей движется к тому, что не может воспринять самый острый рассудок. Кроме идеи бессознательного ( Bewusstlos ), Гегель пользуется и идеей Objektlosigkeit ; последняя иногда означает фихтеанскую идею сознания, которое остается субъектом, но иногда также и шеллингианскую идею сознания, которое было осознанием ничто сознания и уничтожалось в том, что Гегель назовет ночью божественной мистерии, сознания, которое благодаря этому является осознанием самой высокой жизни. Субъект Духа (Geist) может выразить себя лишь во вдохновении, в том нераздельном вдохновении, о котором говорит Гельдерлин, и это та же самая идея, которую Гегель излагает в стихотворении « Элевсин ». «Я углубляюсь в Бесконечность. Я пребываю в Ней, пребываю весь, пребываю только в Ней». [172]Уже годом ранее, в кантианской по видимости Жизни Иисуса , он выражает это же чувство, когда говорит о тех «лучших мирах, где безграничный разум доходит до источника всякого блага и проникает на свою родину, в царство бесконечности».
То, что мы обнаруживаем на этих страницах, оказывается традицией мистика Экхардта и идеей вечного рождения Бога в нас самих. О Боге мы не сможем ничего сказать, и Гегель повторяет мысль Экхардта, приписываемую Мосхеймом Бежарам или Братьям Свободного Духа: «Бог не является ни добрым, ни самым лучшим, ни всеблагим; и я так же страдаю, когда я называю Бога добрым, как и тогда, когда называю белое черным». [173]
Теперь об этой чистой жизни, об этой чистой любви нельзя утверждать ничего противоположного. Был момент, когда Гегель представлял синтез, в котором обе противоположности упразднялись, когда цель, которую он перед собой ставил, заключалась в том, чтобы прийти к чувственной единичности посредством полного упразднения противоположностей. Чистая жизнь будет, если угодно, шеллингианским тождеством, и «любых выражений об объективных отношениях или о деятельности вследствие объективной обработки последних следует избегать». Слова не могут адекватно выразить чистые намерения Иисуса, так же как и намерения Гипериона или Эмпедокла. Суждения, приказы их искажают. Никакое слово не может обозначать жизнь, дух, так как язык — это движение к объективности. Одно лишь молчание соответствует мистериям. Существует лишь бесконечность жизни в целом. Выше той области, где противостоят друг другу объект и субъект. Человек, говорит Гегель, — и здесь теория разума у Гегеля обнаруживает свой романтический исток, благодаря чему романтизм сближается со спекуляциями Псевдо — Ареопагита и неоплатоников, — «человек, который был бы полностью поглощен созерцанием солнца, был бы не более чем ощущением света». Человек, который всегда видел бы свет, был бы лишь ощущением света, ощущением как сущностью. Это фраза Кондильяка, но преобразованная таким образом, что она обозначает мысль Новалиса и Шеллинга, видевших в свете одну из самых высоких форм духа, или Гельдерлина, для которого он объединяет землю и небо, или Плотина. Кроме того, она же обозначает и Христа, индивидуализированный свет. И такое значение, между прочим, недалеко от мысли Новалиса. «Смысл исчезает в видении», — писал Гегель в своей поэме Элевсин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: