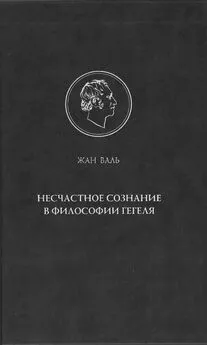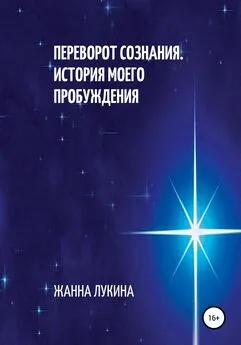Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И когда мы любим ближнего, а не абстрактного человека, как самого себя, в том смысле, в каком известно, что ближний и есть наше «Я», то так же, как не существует теперь всеобщности, так не существует и объективного. Благодаря любви сила объективного разрушается; благодаря ей вся область объективного переворачивается; для любви нет границ; «то, что она не объединила, является для нее не чем‑то объективным, но чем‑то оставшимся в стороне или неразвитым, чем‑то таким, что ей не противопоставляется». Преодолевается противоположность субъективного и объективного в том же самом движении, в каком преодолевается противоположность единичного и общего. Любовь символизируется Тайной Вечерей, которая, в сущности, является «чувственным единством». Разнородные вещи связываются самым глубоким способом. Предметы, ко — торые здесь вначале кажутся объективными, являются на самом деле мистическими, как и действие, которое ими управляет. Хлеб и вино уже не существуют для рассудка, то есть они не относятся больше к объектам, к материи, к разделенным вещам. Я связываю то, что является чуждым, говорит и Эмпедокл Гельдерлина. Даже сравнения и притчи не могут передать представление о глубине этого единства. Более того, здесь уже нет больше чуждого. Жизнь в Христе соединят в одном — единственном понятии множество индивидов; Иисус пребывает во всех людях.
Было вполне естественным, что Гегель вернулся к своим рассуждениям теолога и дал религиозным мистериям определенную интерпретацию, как это нравилось делать его современникам, и как он сам всегда будет пытаться делать; но он будет с уважением относиться к характеру этих мистерий; по его мнению, разум должен оставить нетронутой их тайну.
Если мы возьмем сами практические традиции, мы увидим в них смысл, который прекрасно согласуется с мышлением, с мышлением немыслимого, к которому Гегель приходит: крещение как раз и совершается, чтобы поставить одно такое понятие выше других, разумеется, внешним способом; тот, кто погружается в воду, является теперь лишь данной нашим чувствам водой, так же как недавно мы говорили, что человек, который видит, составляет единое целое со светом. Субъективное и объективное едины (не будучи еще посредством крещения растворены друг в друге). Вода Иордании, как и вода потоков Швейцарии, которую созерцал Гегель, как и вода всех тех рек, чей шум слышится в поэзии Гельдерлина, несут в своем течении отзвук изречения Гераклита, утверждавшего гармонию различного и совершенную непрерывность.
Мы видим лишь, что мы пребываем в объекте любви, говорит Гегель в другом отрывке, и тем не менее нас нет, чудо, которое мы не в состоянии постичь. В центре гегелевской интуиции мы обнаружим идею экстаза, который в то же самое время является процессом; момент, когда и то и другое совпадает, — это момент, когда душа индивида отождествляется с Христом, когда Христос, замкнутый в себе Бог, как говорил Лаватер, Бог разделенный, как говорил Лессинг, но сам Бог, на Кресте, отождествляет себя с душой индивида.
III. Отождествление различий
Теперь Гегель может углубиться в размышления Фрагмента системы 1800 года. Нельзя ли сблизить элемент противоположности и потребность единства, которые он обнаружил во всех формах христиансткой религии, с общей концепцией природы и жизни? Существует нечто, что является разделением того же самого и отождествлением различного. Таким тождеством различного и является разум, каким его представлял себе Гераклит. То, что единое, является множеством, в отношении к тому, что из него исключено. И что касается множества, оно в свою очередь может рассматриваться как существующее в себе бесконечное множество, но, следовательно, так же и как отношение к самому себе (здесь обнаруживаются термины рассуждений Парменида) и как связанное с тем, что из него исключено. «Понятие индивидуальности предполагает противоположность по отношению к определенному бесконечному множеству и в то же самое время связь того же самого множества с самим собой». Человек представляет собой индивидуальную жизнь лишь в силу своей противоположности и своего единства с другими элементами, со всей бесконечностью индивидуальной жизни вне его. «И только в той мере, в какой жизнь в целом разделена, он является одной частью, а целое остается другой частью; он существует сам лишь в той мере, в какой он не представляет собой никакой части и ничто от него не отделено». Мы все находимся перед бесконечной жизнью бесконечного множества, бесконечно разделенного на единства и на бесконечные разделения, и такая разделенная и единая целостность и есть природа. Таким образом, мы приходим к идее неразделенной жизни, внешним, относительно устойчивым выражением которой являются все индивиды, которую в определенном смысле они собой представляют. Иными словами, они не являются ее частью. Именно в идее жизни рефлексия объединяет представления о связи и о разделении, о существующей благодаря себе самой индивидуальности и о всеобщности, одним словом, об ограниченном и о безграничном. [182]Рефлексия, вступающая в область жизни, приносит туда свои понятия, и из этого единства рефлексии и жизни рождается природа.
Такая жизнь, именно она на самом деле полагает саму природу, природу, которая является рефлексивной бесконечностью в себе, и, завершая теперь в противоположном направлении движение, которое мы только что упоминали, мы отмечаем, что эти понятия разделения и единства, целого и части, реализованы в природе. Рефлексия понимается теперь уже не как субъективный феномен, но как феномен — ноумен, как voOç фоилюцвуос;,который создает из конечной бесконечности жизни бытие природы. От бытия природы мы поднялись к идеям любви и жизни, и мы можем теперь, отталкиваясь от этих идей, вновь спуститься к природе, которая является жизнью, взятой в ее устойчивости, понятой одновременно и как единая и разделенная. Впрочем, эта устойчивость — чистая видимость, так как не существует ничего, что не находилось бы в движении.
У Гегеля есть движение, которое исходит из изначального, наивного единства, каким представлял его Шиллер, и заканчивает окончательным единством, проходя в своем развитии тот круг, который рисовал в воображении Гельдерлин. Как и у Гельдерлина, как и у его учителя Шиллера, развитие в духе Гердера разворачивается между единым как неразвитой целостностью и единым как целостностью, полностью выраженной и внешне и внутренне, судьбой, осознавшей саму себя.
Мы видим, как одновременно исчезают и свобода субъекта, и необходимость объекта. И в духе Шеллинга и Гельдерлина приходим к синтезу необходимости и свободы, сознания и бессознательного. На самом деле необходимость, которая не была бы в то же самое время свободой, и свобода, которая не была в то же самое время необходимостью, ни та ни другая не соответствуют своему собственному понятию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: