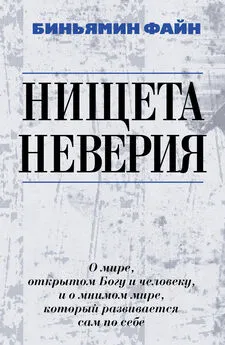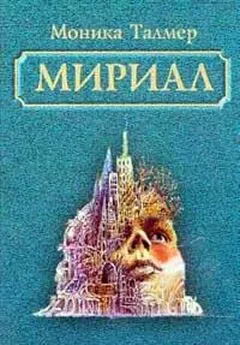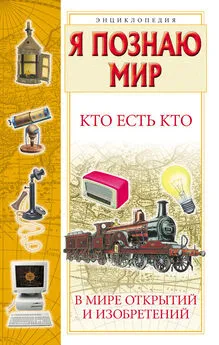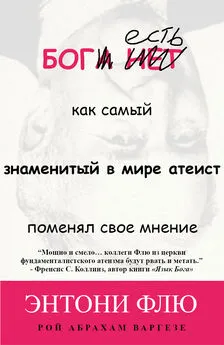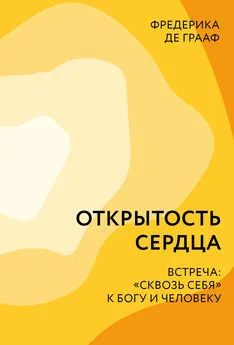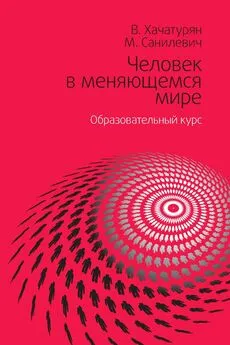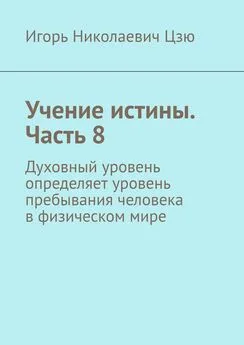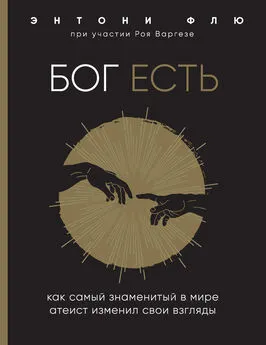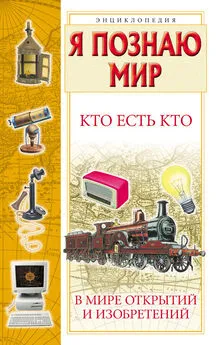Биньямин Файн - Нищета неверия. О мире, открытом Богу и человеку, и о мнимом мире, который развивается сам по себе
- Название:Нищета неверия. О мире, открытом Богу и человеку, и о мнимом мире, который развивается сам по себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мосты культуры / Гешарим
- Год:2011
- Город:Иерусалим
- ISBN:978-5-93273-33
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Биньямин Файн - Нищета неверия. О мире, открытом Богу и человеку, и о мнимом мире, который развивается сам по себе краткое содержание
Профессор Тель-Авивского университета Биньямин Файн – ученый-физик, автор многих монографий и статей. В последнее время он посвятил себя исследованиям в области, наиболее существенной для нашего понимания мира, – в области взаимоотношений Торы и науки. В этой книге автор исследует атеистическое, материалистическое, светское мировоззрение в сопоставлении его с теоцентризмом. Глубоко анализируя основы и аксиомы светского мировоззрения, автор доказывает его ограниченность, поскольку оно видит в многообразии форм живых существ, в человеческом обществе, в экономике, в искусстве, в эмоциональной жизни результат влияния лишь одного фактора: материи и ее движения. Неверие, секулярный взгляд на мир, основанный на обожествлении природы и ее законов в качестве первоисточника всего, – это и есть современное идолопоклонство, борьбу с которым автор ставит своей основной задачей.
Перевод: К. Александер
Нищета неверия. О мире, открытом Богу и человеку, и о мнимом мире, который развивается сам по себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Решение Канта достаточно неожиданно и сложно для понимания. В моей книге «Закон и Б-жественное управление» я уделил много внимания критике кантовской теории познания. Здесь я перескажу вам лишь краткие выводы, не вдаваясь в доказательства. Кант развивал подход, утверждающий центральное положение человека в мире (Man-centered Universe, «Антропоцентрическая вселенная»). Не Б-г, а человек устанавливает законы этики, определяет, что хорошо, а что дурно. И более того, Кант пришел к парадоксальному выводу о том, что человек устанавливает и природные законы. Юм показал, что невозможно черпать законы природы из наблюдения за нею. Но факт в том, что наука существует. Откуда она берется? Единственная возможность, если избегать идеи существования Б-га, – это сказать, что человек сам устанавливает законы природы.
Общая идея Канта состоит в том, что именно человеческий интеллект создает законы и накладывает их на сырой материал опыта. Эти законы человек постигает как данные априори (a priori), изначально, до получения опытных данных и вне всякой связи с ними. «Разум не черпает свои законы из природы, – напротив, он записывает их в природе» [29] (см. Кант. Пролегомены.). Эти законы, не являясь порождением опыта, организуют его сырой материал. Законы суть утверждения, общие, универсальные высказывания, которые мы делаем относительно мира опыта. Я уже сказал, что в мои намерения не входит приводить здесь сложную и разветвленную систему доказательств Канта, будто бы обосновывающую этот вывод. В книге «Закон и Б-жественное управление» я показал ее ошибочность с помощью ее критики другими мыслителями. Здесь мы упомянем лишь отношение Альберта Эйнштейна к теории познания Канта и процитируем два его высказывания. В одном из них Эйнштейн объясняет, почему познаваемость мира представляет собой загадку, и критикует «отгадку» этой загадки, предлагаемую Кантом. Вот что пишет Эйнштейн в письме к Соловину:
«Вы удивляетесь, что я говорю о познаваемости мира… как о чуде или как о вечной загадке. Ведь изначально, априори, можно ожидать, что мир представляет собой хаос, а потому невозможно познать его путем размышления. Было бы возможно (или неизбежно) ожидать, что этот мир подчиняется закону ровно в той степени, в какой мы способны навести в нем порядок с помощью нашего разума. Это было бы «наведение порядка», подобное расположению по алфавиту слов определенного языка [именно так, в сущности, и представляет Кант свою теорию познания]. Напротив, порядок, который вносит в мир, например теория гравитации Ньютона, имеет совершенно иной характер. Несмотря на то что аксиомы этой теории созданы человеком, успех этого предприятия предполагает существенную упорядоченность объективного мира, ожидать которую изначально у нас нет никаких оснований. В этом и состоит «чудо», и чем дальше развиваются наши знания, тем волшебнее оно становится» [30] .
В другом месте Эйнштейн подчеркивает, что утверждение Канта о том, что несомненное знание о законах природы человек получает из собственного рассуждения, лишено всяких оснований:
Таким образом, если мы располагаем совершенно точным знанием, оно должно быть укоренено в самом разуме [согласно Канту]. Это верно, например, для геометрических теорем и для принципа причинности. Это и некоторые другие определенные виды знания, можно сказать, относятся к характеру самого нашего мышления, а потому не выводятся из данных опыта (то есть представляют собой априорное знание). Сегодня все знают, разумеется, что они совсем не так очевидны и непременны сами по себе, как полагал Кант [31].
Философия Канта вообще и его теория познания в частности оказали влияние на многих мыслителей и продолжают оказывать это влияние до сего дня. Как уже говорилось, она будто бы является основанием взгляда на мир, провозглашающего центральное место человека и отказывающегося от Б-га (хотя сам Кант был верующим человеком). Несмотря на то что кантовская теория познания до сих пор достаточно популярна, многие мыслители понимают ее ошибочность. Чтобы в этом убедиться, достаточно заметить, что Кант был уверен, что механика и теория гравитации Ньютона представляют собой окончательную и доказанную истину, и доказывал, что они есть непременноеследствие человеческой мысли и последнее слово в своей области. Но вот явился Эйнштейн и открыл более точную теорию, предсказавшую новые явления и приведшую к смене научного взгляда на мир, настоящему перевороту. Сегодня можно полагать, что и теория Эйнштейна представляет собой лишь более точное приближение к реальности и что в будущем должна появиться новая теория, которая будет к ней еще ближе. Это и означают слова Эйнштейна: « Сегодня все знают, разумеется, что они совсем не так очевидны и непременны сами по себе, как полагал Кант».
Научная революция принесла с собой новое понимание статуса научной теории: она представляет собой не абсолютное знание, как думал Кант, а оценку, догадку, гипотезу, описывающую мироздание с определенной степенью приближения. Стоит отметить, что и во времена Канта был мыслитель, который это понимал. Шломо Маймон (1754–1800) написал в частном письме Канту, что и механика Ньютона, и учение самого Канта суть не более чем гипотезы. Об этом Кант «в частном письме сказал о Маймоне, что он паразит, как все евреи» [32] .
Если так, научная теория не имеет статуса окончательной истины, а есть лишь оценка, описывающая действительность с определенной степенью приближения. Это понимание в ХХ веке заставило Карла Поппера сформулировать свою теорию познания следующим образом:
1. Как доказал Дэвид Юм, невозможно вывести научные законы из наблюдений, от частного к общему другими словами, принципа индукции не существует.
2. В основании научной теории лежат научные законы, представляющие собой аксиомы этой теории. Из них делаются выводы этой теории, которые можно проверить экспериментально. Научная теория построена на основе принципа дедукции, то есть вывода от общего к частному.
3. Откуда берутся аксиомы научной теории, научные законы, откуда берутся научные теории? Ответ Поппера на этот вопрос на первый взгляд совершенно прост. Мы должны рассматривать все научные теории как гипотезы, как предположения (другими словами, как попытки угадать закон природы). Эти теории – дело рук человека. Они суть аксиомы, которые невозможно вывести из опытных данных. Построение науки дедуктивно – от общего к частному.
4. Как развивается наука? Новые теории отрицают старые и оставляют им лишь ограниченную область применимости. Но и новые физические теории, такие, как специальная и общая теория относительности или квантовая теория, представляют собой не более чем гипотезы, версии, догадки. Но раз так, возникает вопрос: существуют ли какие-либо доказательства, экспериментальные или логические, которые могли бы сделать одну гипотезу более предпочтительной по сравнению с другой? Ответ Карла Поппера таков: нет ни одной научной теории, истинностькоторой могла бы быть подтверждена на опыте. Чтобы этого добиться, нужно было бы провести бесконечное число экспериментов, включая все будущие, – а это невозможно. Увеличение количества экспериментов может лишь усилить и подкрепить (to corroborate) научную теорию, но не доказать, что она истинна. Множество экспериментальных данных подкрепляют механику и теорию гравитации Ньютона и не противоречат им, однако в ХХ веке Альберт Эйнштейн открыл новые теории и предсказал новые явления, опровергающие выводы механики и теории гравитации Ньютона. Невозможно доказать истинностьтеории, которая есть всего лишь гипотеза, версия, догадка, поскольку не имеет значения, сколько экспериментов подкрепляют ее, – нет никакой гарантии того, что завтра не появится новый опыт, который опровергнет ее. Единственный способ, согласно Попперу, предпочесть одну гипотезу другой состоит в том, чтобы опровергнуть одну из них. Опровергнуть любую теорию можно путем опровержения, теоретического или экспериментального, ее дедуктивных следствий (следствий, выведенных путем логического рассуждения). Для этих целей достаточно единичных экспериментов или даже одного-единственного эксперимента. Пока научная теория не опровергнута, она сохраняет статус гипотезы, предположения, однако она предпочтительнее уже опровергнутой теории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: