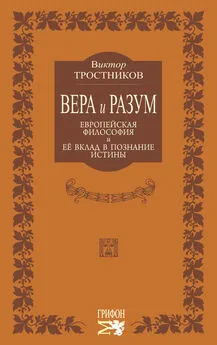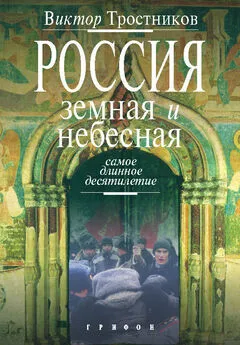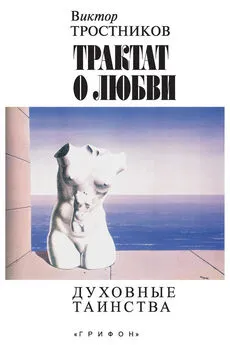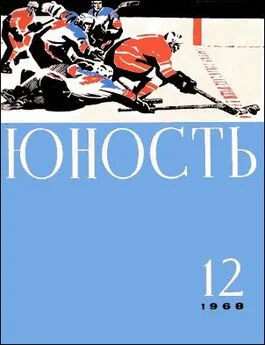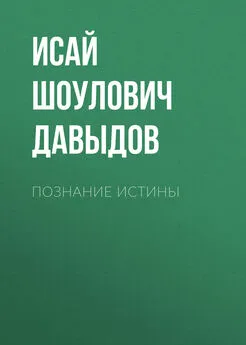Виктор Тростников - Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины
- Название:Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Грифон»70ebce5e-770c-11e5-9f97-00259059d1c2
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98862-060-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Тростников - Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины краткое содержание
Автор книги – известный религиозный философ – стремится показать, насколько простая, глубокая и ясная вещь «настоящая философия» – не заказанное напористой и самоуверенной протестантской цивилизацией её теоретическое оправдание, а честное искание Истины – и как нужна такая философия тем русским людям, которые по своей натуре нуждаются в укреплении веры доводами разума.
В форме увлекательных бесед показаны не только высоты и бездны европейской философии, но и значительные достижения русской философской школы, уходящей своими корнями в православное мировосприятие. Прослеживаются истоки современного западного антропоцентризма и разрыва с Божественной Истиной.
Данная книга – пример серьёзного и в то же время увлекательного исследования, она может использоваться в качестве компактного пособия по освоению философии для преподавателей, учащихся средних и высших учебных заведений, а также для самообразования.
Для всех, кто хочет научиться серьёзно мыслить, познакомиться с философским наследием Европы и России, а также думает о будущем своей страны.
Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Декарт, с философией которого мы познакомимся позже, сказал: «Я мыслю, следовательно, я есть», и это сочли верхом мудрости. Но Декарт не исполнил завета древнегреческих мудрецов додумывать всё до конца. Мы последуем этому завету и пойдём на один шаг дальше Декарта, добавив к его тезису другой: «Я мыслю, следовательно, я хочу мыслить». Ещё дальше, как мы сейчас видели, идти уже нельзя. Так мы получаем ещё одну очень важную информацию о нашем внутреннем «я»: если по природе оно есть ЕДИНОЕ, то по своему действию есть ВОЛЯ.
Наконец, о взаимодействии «я – субъекта» и «я – объекта». Здесь мы имеем очень любопытную ситуацию. Вернёмся опять к феномену размышления. Размышляет, как мы уже знаем, внутреннее «я». Но над чем оно размышляет? Над каким-то поставленным перед собой предметом осмысления. Этот предмет может быть либо реальным , то есть таким, о котором доносят нам наши органы чувств, либо воображаемым , который «я» само ставит перед своим мысленным взором. Начнём с первого случая.
Когда мы осмысливаем фрагмент внешней реальности, процесс сводится к отысканию нашего смысла в наборе цветовых пятен и звуков и во включении этого нового для нашего внутреннего «я» смысла в свой состав. Это, конечно, не означает, что достигнутый смысл стал частью внутреннего «я»: как мы знаем, в нём нет никаких частей. Вхождение в него ещё одной добавки можно сравнить с поглощением астрономической «чёрной дырой», где всё сплавляется в один недоступный внешнему наблюдению «атом» какого-нибудь упавшего на неё тела, например метеорита. Таким образом, в акте восприятия внутренним «я» внешних впечатлений может произойти его количественное обогащение.
Иначе обстоит дело при осмыслении нашим «я» предмета, порождённого его собственным воображением. Прежде всего заметим, что такого осмысления не могло бы быть, если бы внутреннее «я» не обладало способностью, оставаясь неделимым и, следовательно, ничего не теряя, выбрасывать из себя наружу в качестве некоего протуберанца нечто такое, что сразу же превращается в структурированный объект. Теперь о нём уже можно говорить как о «части» единого «я», ибо он вошёл в тот мир, где есть эта категория.
Осмысливая фрагмент своего собственного содержания, наше «я» может заметить в нём какие-то дефекты логического или эстетического характера и тут же устранить их. После этого «я» втягивает улучшенный фрагмент в себя обратно, в результате чего происходит его качественное обогащение, усовершенствование.
Самым ярким примером такого способа самоусовершенствования является феномен раскаяния. Он хорошо описан тем же Пушкиным:
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько сетую, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.
Раскаяние есть частный случай приближения к истине. Можно извлечь из себя, улучшить и спрятать обратно мысль – это будет рассудочное приближение. Можно сделать то же самое со своими эмоциональными оценками, навести порядок в области чувств – это будет эстетическое приближение. Можно, наконец, развернуть перед собой свиток своей жизни и увидеть в ней такие поступки, которые больше не станешь повторять, – это будет экзистенциальное приближение, может быть самое важное.
Смыть печальные строки невозможно, но печалиться о них полезно, ибо это меняет в лучшую сторону качество нашего «я».
Для того хранилища или резервуара, в котором хранится содержание нашего «я», обычно используется термин «память». Если мы хотим быть настоящими философами, мы не должны его употреблять, ибо он не имеет определения, а следовательно, бессмыслен. Ничего другого сказать о памяти, кроме того, что она помогает нам запоминать, невозможно, поэтому не надо засорять язык лишними словами. Что это за устройство, обеспечивающее нам запоминание, где оно находится и как действует – знать принципиально нельзя, ибо оно находится в нашем внутреннем «я», которое непостижимо. Так что не следует удваивать понятия и вместо того, чтобы говорить «Это ушло в мою память», лучше сказать «Это ушло в моё “я”».
Способность нашего «я» отчуждать от себя фрагменты своего содержания, претворяя их в наблюдаемую структуру, и вбирать их обратно, растворяя в своём едином, даёт нам возможность диалога не только с самим собой, но и с другим человеком. Действительно, всякая беседа протекает по одной и той же схеме.
1. Иванову приходит в голову мысль: «Хорошо бы в такой жаркий солнечный день пойти в павильон на набережной и выпить по кружке пива».
Мысль эта приходит в голову никак не в словесной форме, не в расчленённом на слова виде, а мгновенно, сразу и целиком. О таких мыслях иногда говорят: «Меня вдруг озарило». Но передать её Петрову в таком свёрнутом виде Иванов не может, ибо телепатии нет. Приходится совершить ещё один акт.
2. Иванов переводит свою целостную мысль в словесную форму, во фразу , которая представляет собой внешнюю и для него, и для Петрова структуру. Эту структуру он представляет Петрову средствами своего голосового аппарата.
3. Петров, восприняв эту структуру с помощью слухового аппарата, предъявляет её своему внутреннему «я», которое свёртывает её в целостную мысль, повторяющую мысль Иванова, и его «я» оценивает эту мысль как хорошую. После этого оба идут в павильон.
Предложение попить пивка, конечно, несерьёзная передача мысли, но абсолютно так же протекает самая наисерьёзнейшая. Великий математик Анри Пуанкаре понял все свойства автоморфных функций и даже их связь с геометрией Лобачевского в тот момент, когда занёс ногу над ступенькой кареты, но ещё не успел опустить. Из этого озарения затем вышли десятки страниц мемуара (трактата. – В. Т), заложившего новое направление в математическом анализе. Тысячи математиков, читая этот мемуар, свёртывали его структуру в целостную мысль – ту самую, которая озарила Пуанкаре, – и работали дальше.
Отцы-основатели философской науки построили свою модель большого космоса по аналогии с микрокосмосом, которым является человек. Неизвестно, в какой мере они руководствовались собственным тезисом о том, что нужно прежде всего познать самого себя, но для нас сейчас важна не их методология, а их результат. Автором элейской космологии был, по всей вероятности, Парменид; его учение мы и изложим сейчас в краткой форме, используя в качестве основного источника диалог Платона «Парменид».
Исходная задача Парменида – понять, что есть Единое. Познание этой категории идёт у него по пути отбрасывания тех свойств, которыми Единое не обладает. Такое познание называется апофатическим, и оно играет важнейшую роль в христианском богословии, которое, несомненно, заимствовало его у древнегреческих философов. Вот к каким выводам приводит этот метод по отношению к Единому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: