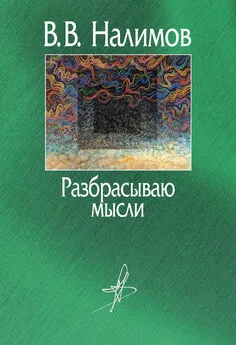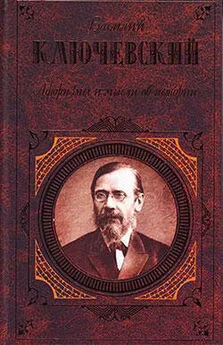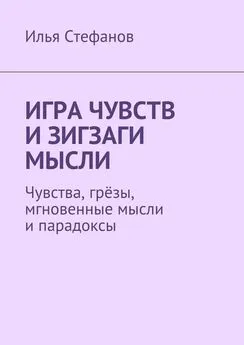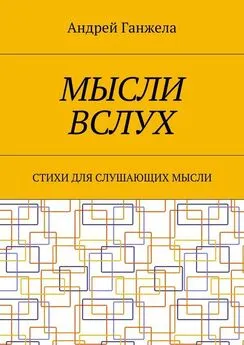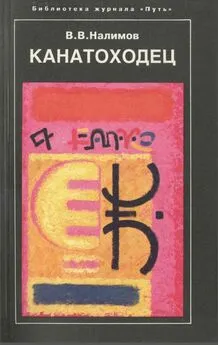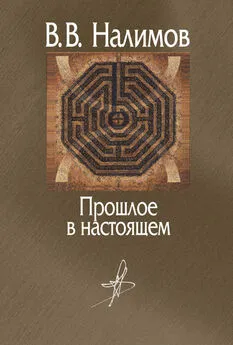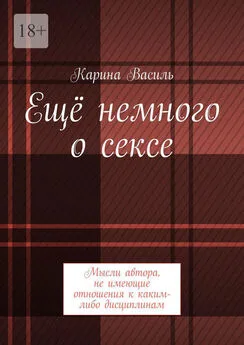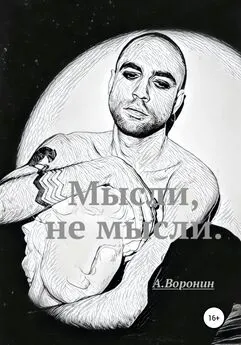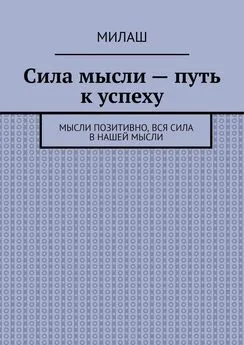Василий Налимов - Разбрасываю мысли
- Название:Разбрасываю мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-521-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Налимов - Разбрасываю мысли краткое содержание
Автор приглашает читателя к размышлениям на философские темы, касающиеся сущности мира и человека, к творческому поиску в пространстве смыслов, устремленных к потенциальному богатству Будущего. Основные темы книги: смысловая природа личности, вероятностная модель сознания, биологический эволюционизм как творческий процесс, мир как геометрия и мера, философское запредельное – проблема личностной теологии.
Методологическое умение автора позволяет ему соединять области рационального и нерационального, открывая новые перспективы и методы постановки вопросов. Он ведет читателя по разным уровням и лабиринтам реальности, непрерывно расширяя «географию» этого интеллектуального путешествия, направленного на то, чтобы «постичь Вселенной внутреннюю связь».
Разбрасываю мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Генетика вошла в науку как статистическая дисциплина, и ее удивительный успех является доказательством (если оно вообще требуется) того, что теория данного типа является столь же строгой, как и та, что исходит из дифференциальных уравнений. Налимов задается вопросом: как точные геометрические структуры, известные в современной биологии, появились в процессе, который явно содержит случайность? И может быть, он прав, по крайней мере в том, что ответ может прийти из математики? Нобелевский лауреат по физике Илья Пригожин в своей книге Порядок из Хаоса отмечает [214]:
Наша позиция в этой книге сводится к утверждению: наука, о которой говорит Койре, не является более нашей наукой, и отнюдь не потому, что нас ныне занимают новые, недоступные воображению объекты, более близкие к магии, чем к логике, а потому, что мы как ученые начинаем нащупывать свой путь к сложным процессам, формирующим наиболее знакомый нам мир – мир природы, в котором развиваются живые существа и их сообщества. Мы начинаем выходить за пределы того мира, который Койре называет «миром количества», и вступаем в «мир качества», а значит, и в мир становящегося, возникающего (c. 78).
Л.Ц. Уайт в своей книге Грядущее развитие человека (The Next Development of Man) давно уже написал следующее:
Человек обнаруживает себя внутри вселенского процесса, открывая вселенский процесс внутри себя. Напряженность продолжается, но с этого времени человеку предстоит борьба не против процессов природы, а вместе с ними.
Чтобы показать, как некоторые идеи Налимова, представленные в этом эссе, в частности те, что относятся к пространству, времени и спонтанности, близки представлениям, находящимся у границ современной космологии, обратимся вновь к замечательной книге Пригожина:
Однако на протяжении довольно длительного периода времени физики считали, что инертная структура кристаллов – единственный предсказуемый и воспроизводимый физический порядок, а приближение к равновесию – единственный тип эволюции, выводимый из фундаментальных законов физики. Любая попытка экстраполяции за пределы термодинамического описания была направлена на то, чтобы определить редкий и непредсказуемый тип эволюции, описанием которого занимаются биология и социальные науки. Как, например, совместить дарвиновскую эволюцию (статистический отбор редких событий) со статистическим исчезновением всех индивидуальных особенностей, всех редких событий, о котором говорит Больцман? Роже Кэллуа поставил вопрос так: «Могут ли и Карно и Дарвин быть правы?»
Интересно отметить, насколько близок по существу дарвиновский подход к пути, избранному Болъцманом. Вполне возможно, что в данном случае речь идет не просто о внешнем сходстве. Известно, что Больцман с восхищением воспринял идеи Дарвина. По теории Дарвина, сначала происходят спонтанные флуктуации видов, после чего вступает в силу отбор и начинается необратимая биологическая эволюция. Как и у Больцмана, случайность приводит к необратимости. Однако результат эволюции у Дарвина оказывается иным, чем у Больцмана. Интерпретация Больцмана влечет за собой забывание начальных условий, «разрушение» начальных структур, тогда как дарвиновская эволюция ассоциируется с самоорганизацией, с неуклонно возрастающей сложностью.
Резюмируя сказанное, мы можем утверждать, что равновесная термодинамика была первым ответом физики на проблему сложности природы. Этот ответ получил свое выражение в терминах диссипации энергии, забывания начальных условий и эволюции к хаосу. Классической динамике, науке о вечных, обратимых траекториях были чужды проблемы, стоявшие перед XIX в., в которых главная роль отводились понятию эволюции. Равновесная термодинамика оказалась в состоянии противопоставить свое представление о времени представлениям других наук: с точки зрения термодинамики время означает деградацию и смерть. Как мы знаем, еще Дидро задавал вопрос: где именно вписываемся в инертный мир, подчиняющийся законам динамики, мы, организованные существа, наделенные способностью воспринимать ощущения? Существует и другой вопрос, над которым человечество билось более ста лет: какое значение имеет эволюция живых существ в мире, описываемом термодинамикой и все более беспорядочном? Какова связь между термодинамическим временем, обращенным к равновесию, и временем, в котором происходит эволю ция ко все возрастающей сложности?
Был ли прав Бергсон? Верно ли, что время есть либо само по себе средство инновации, либо вообще ничто? (С. 181–182.)
Я закончил бы Предисловие личным замечанием. При подготовке этого текста я говорил моему московскому коллеге, что некоторые его взгляды могут встретить враждебный прием в условиях преобладания позитивизма и неприятия метафизики. Только к концу своей работы я с большей ясностью осознал, что в науке и философии мы спорим не только с нашими современниками и предшественниками, но также и с нашими потомками. Эту мысль лучше меня выразил в Четвертом афоризме Фрэнсис Бэкон, «человек, который видел сквозь время»:
Вселенная не должна быть сужена до пределов понимания… но само понимание должно быть расширено и увеличено, чтобы дополнять образ Вселенной по мере его раскрытия.
Перевод с английского языка Ж.А. Дрогалиной
Рецензия [215]
V. V. Nalimov. Space, Time, and Life. R. Colodny (ed.). Philadelphia: ISI Press, 1985, 110 p.
Проф. М.Дж. Моравчик
Институт теоретической науки
Университет Орегона
По мере своего развития наука предпринимает исследование естественных явлений, все более отдаленных от повседневного человеческого опыта. Эта отдаленность не умаляет их «значимости» по космическим критериям, наоборот – значимость возрастает: поскольку рамки, в которые человек помещен своей природой, есть лишь небольшая часть всего диапазона значений таких параметров, как длина, время, температура, плотность (и это крошечное окошко находится где-то в середине каждого диапазона), то вероятнее всего «действительно» фундаментальные явления природы находятся далеко за пределами этих диапазонов.
На самом деле, явления, далеко отстоящие от повседневного опыта, даже по человеческим критериям, все сильнее влияют на условия нашего существования. Примерами могут служить разработка и утилизация ядерных объектов, молекулярная биология или сверхпроводимость.
Кроме того, исследование таких «отдаленных» явлений требует все больших технологических ресурсов, увеличения исследовательских коллективов, более образных и «странных» концептуальных структур и непрерывно усложняющихся организационных усилий. Развитие оказывает влияние также и на характер «научного метода», что важно для наукометрии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: