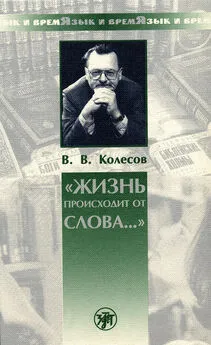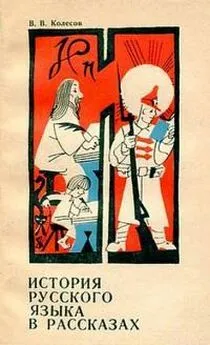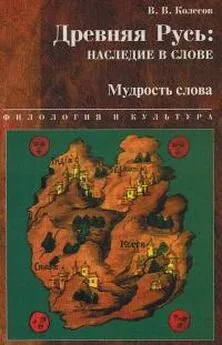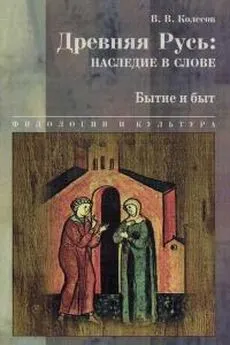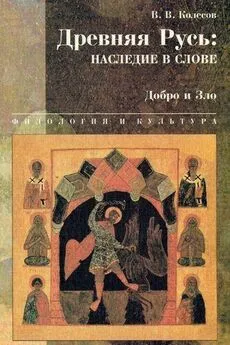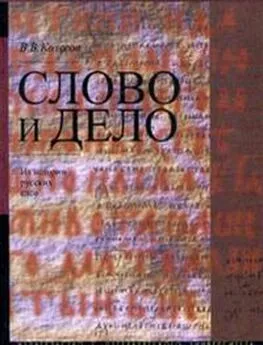Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте
- Название:Русская ментальность в языке и тексте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Петербургское Востоковедение
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:ISBN 978-5-85803-339-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте краткое содержание
Книга представляет собой фундаментальное исследование русской ментальности в категориях языка. В ней показаны глубинные изменения языка как выражения чувства, мысли и воли русского человека; исследованы различные аспекты русской ментальности (в заключительных главах — в сравнении с ментальностью английской, немецкой, французской и др.), основанные на основе русских классических текстов (в том числе философского содержания).
В. В. Колесов — профессор, доктор филологических наук, четверть века проработавший заведующим кафедрой русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих фундаментальных работ (среди последних пятитомник «Древняя Русь: наследие в слове»; «Философия русского слова», «Язык и ментальность» и другие).
Выход книги приурочен к 2007 году, который объявлен Годом русского языка.
Русская ментальность в языке и тексте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот что лингвист говорит о немецком предложении, но мог бы сказать и о русском: «Более того, когда ум погружается в созерцание и становление явлений, всё кончается тем, что забывают, чем был вызван данный процесс; забывают о деятеле; субъект глагола остается в тени; а отсюда изобилие безличных глаголов в немецком языке... Напротив, французский язык отвергает эти глаголы вследствие их неопределенности» [Балли 1955: 380]. Весь немецкий и русский синтаксис пронизывает движение, тогда как французский «создает впечатление покоя, неподвижности» — это язык понятий, а не образов или символов.
Французский язык логичен риторически, немецкий — стилистически.
Говоря о «психологии французского духа», Фуллье заметил, что у француза идея определяет направление чувств и чувства зависят «от прохождения умственного тока» [Фуллье 1896: 112]. Французский язык всегда «готов для мысли, слова и дела», это вообще язык, «на котором всего труднее плохо мыслить и хорошо писать». Французская мысль логична, а не страстна, даже личные мысли выражаются «с известной безличностью». Очень точное описание французской речи: «Мы не формуем нашу фразу по глыбе вещей, мы ваяем эту глыбу для того, чтобы придать ей понятную и прекрасную форму»; «вместо того, чтобы быть рабами реального, мы его идеализируем по-своему» [Там же: 122] — выделим слова, указывающие на единство логического в понятии и риторического в искусном.
Описательность русского или немецкого высказывания порождает новое знание в момент речи. Здесь возможно творчество, которое одновременно творит мысль. Если для французского ученого «почти полное исчезновение диалектов — это сила» [Балли 1955: 396], то, например, для русского — беда: в результате исчезают источники пополнения образного словаря и создания ажурной конструкции стилей, в тонких оттенках которых постоянно воссоздаются культурные символы.
Вот почему и внедрение в язык немотивированных заемных знаков, и разрушение стилей речи воспринимается русской ментальностью как покушение на нее самое.
Английское высказывание хорошо характеризует Джордж Оруэлл. В английском «обширнейший вокабуляр (словарь) и простота грамматического строя» соединяются с прекрасной возможностью слов переходить из одной части речи в другую: прилагательное — оно же существительное, а часто и глагол, в сочетании с предлогами одно и то же слово содержит до двадцати значений, и т. д.
Здесь нет длинных фраз и сложных риторических периодов, «английский — язык лирической поэзии и газетных заголовков», и «именно потому, что им легко пользоваться, им легко пользоваться плохо», что многих устраивает: «Никаких сложных правил не существует, есть лишь общий принцип, согласно которому конкретные слова лучше абстрактных (они толкуют о вещи! — В. К .), а лучший способ что-нибудь сказать — сказать кратко» [Оруэлл 1992: 223]. Голливудские боевики демонстрируют доведенные до сугубого лаконизма реплики героев, повторяющие друг друга из фильма в фильм. Это уже завершение тенденции, поскольку «в устной речи опускается все, что можно опустить, а оставшееся сокращается». Почему так случилось, писатель объясняет верно: «Культурный английский утратил жизненную силу, потому что чересчур долго был лишен подпитки снизу» — от народной речи [Там же: 224]. Сегодня те же беды грозят и немецкому, и русскому языкам. Вот судьба английской речи: со времен Шекспира англичан характеризует «глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм наряду с неспособностью логически мыслить» [Там же: 203]. И это не случайная оговорка, а способность, связанная с формами языка: «Англичане никогда не станут нацией мыслителей. Они всегда будут отдавать предпочтение инстинкту, а не логике, характеру, а не разуму»; прагматики дела и вещи, «из-за острой нехватки интеллекта» они не интересуются интеллектуальными вопросами [Там же: 233].
Как обычно бывает, в заведомо заостренной форме здесь выражена самая суть дела, с болью за родной язык высказанная мастером слова.
Можно ведь и иначе оценить свой язык — по функции, а не по силе. Вот как это делает русский писатель Владимир Набоков, говоря о собственном переводе «Лолиты» на русский язык: есть разница между «молодым русским литературным языком и более старым английским языком». В английском «тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов», а вот в русском этого нет.
Но тут возникает естественное желание вступиться уже за «молодой русский литературный язык», в котором, конечно, тоже всё это есть, но не усмотрено в сравнении с английским, выделенным как предмет наблюдения. Между прочим, с «более старым английским», чем тот, о котором говорит Оруэлл.
Сравнивая английскую, немецкую или французскую речь с русской, замечаем, что русское высказывание спокойно может обойтись без местоимения, указывающего на действующее лицо, а в других языках это невозможно, они всегда местоименно точны: 1-е и 2-е лицо присутствуют обязательно. Устранение указания на говорящего в русском предложении объясняется ситуацией, пропозиция «вещи» не нуждается в выражении ее идеи посредством специального слова. Ситуация у русских включена в высказывание, в других языках она дублируется словесно. Англичанин начнет: «Мау I see your ticket?» — русский скажет просто: «Ваш билет...» Переведите на английский фразы типа «есть хочется...», «хорошо бы поспать...» — получится что-то вроде I'm hungry , и обязательно с этим «я».
В немецком и русском, как сказано, стилистическая функция речи имеет важное значение. Она проявляется во всем, включая порядок слов в предложении. В русском языке он вообще свободен, в немецком более связан, но в общем не так, как в английском или французском. В русском предложении «Я завтра утром пойду гулять» возможно до 20 перестановок слов. В русском свободно используется инверсия и дистантное расположение связанных согласованием слов («черные налетели птицы»), в немецком такие возможности ограничены; там глагол вступает в рамочную конструкцию, и если уж поставлен в начале предложения — значит, это особое логическое выделение мысли.
Символически различие между ratio и logos 'ом может быть представлено в истолковании образа Троицы [Колесов 2002: 265—274]. У православного христианства это соотношение между Сыном и Духом, одинаково восходящим к Отцу; у католиков это соотношение между Отцом и Сыном ( filioque ), одинаково нисходящими к Духу. В латинском христианстве «лица оставались на втором плане», потому что признавалось их единство [Шпидлик 2000: 61] — «содержание понятия νους, происходящее от слова сердце , без сомнения, устраняет опасность интеллектуализма» [Там же: 115], но совсем не исключает его, ибо νους есть Ум.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: