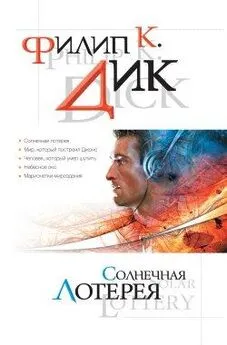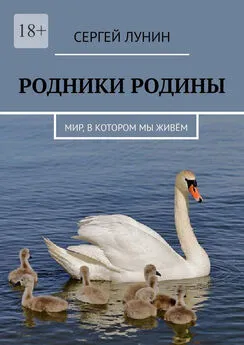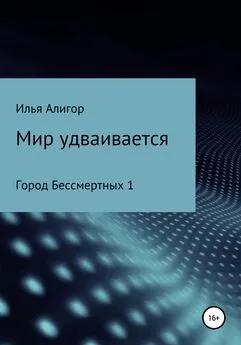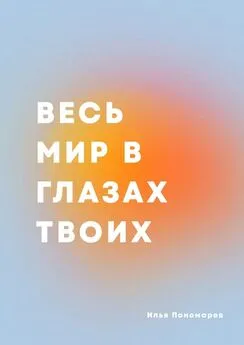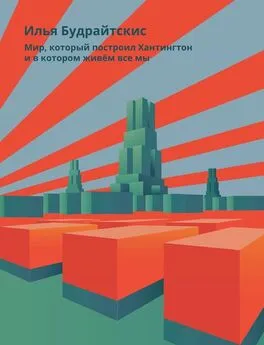Илья Будрайстскис - Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России
- Название:Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Будрайстскис - Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России краткое содержание
Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобная «де-политизация» социальных вопросов полностью соответствует духу неолиберальных реформ в социальной сфере, где государство лишь предоставляет населению «услуги» на взаимовыгодной основе. Консерватизм и неолиберализм: опасные связи
Несмотря на декларируемый властями «особый путь» России, существующую идеологическую композицию режима вполне можно сравнить с неоконсервативным поворотом на Западе, впервые проанализированным в связи с политикой М. Тэтчер и Р. Рейгана тридцатилетней давности. Именно тогда, в момент экономического кризиса, атака правых на социальное государство начинается в форме «авторитарного популизма», включающего прежде несовместимые идеологические компоненты – апелляцию к консервативным ценностям и апологию ничем не ограниченного рыночного интереса [93]. Знаменитая максима Тэтчер – «общества не существует» – вступала в прямое противоречие с основами консервативного мировоззрения, для которого «общество» всегда оставалось ключевым понятием. Тэтчеризм стал разрывом не только с предшествующим социал- демократическим консенсусом, но и с консервативной политической традицией.
Со времён Дизраэли британский консерватизм противопоставлял либерализму исторически сложившееся единство нации, связанное общим укладом и взаимными обязательствами. Для консерваторов государство было не «ночным сторожем», функции которого ограничены лишь защитой собственности и гарантиями невмешательства в частную жизнь, а органичным продолжением общества, его «формой». Отношения власти и гражданина здесь представляли не рациональный контракт, но основывались на авторитете и метафорически уподоблялись роли отца по отношению к членам семьи. В то же время консерваторам всегда была чужда социал- демократическая идея «общественного интереса», для реализации которого необходимы активные интервенции государства в экономику [94].
Общество для консерваторов никогда не было нормативным понятием, но представляло партикулярную результирующую истории каждой страны. Опора на реально сложившиеся отношения внутри конкретного национального сообщества определяла скепсис консерватора по отношению к любым реформам, направленным на торжество универсальных принципов свободы или справедливости. Из этой скептической установки консерватизма органично вытекало и позитивное представление о праве, согласно которому любое законодательство отражает не рациональные принципы, а итог негласного соглашения поколений. В этом смысле между консервативным оправданием британского конституционализма и русского самодержавия нет никакого противоречия – и первый, и второй в полной мере соответствуют историческому опыту этих стран («Конституция России – это её история», как это исчерпывающе сформулировал в своё время русский консерватор Фёдор Тютчев).
Эта анти-нормативность консерватизма, его скептическая установка в отношении универсалистских теорий (таких, как либерализм и социализм), всегда придавала ему исключительную гибкость и приспособляемость к самым разным национальным контекстам. Консерватизм везде имеет различное содержание (так как оно определяется неповторимым сочетанием форм жизни каждой отдельной нации) – при общности внутренней логики самого политического стиля [95].
Свобода для консерваторов означает не что иное, как само право на различие, возможность нации оставаться верной себе и своей истории. Таким образом, свобода полностью совпадает с понятием суверенитета, а любые попытки его ограничить ради универсальных ценностей (например, прав человека), соответственно, являются ограничением свободы. Подлинная свобода принадлежит социальному телу, тогда как индивид как раз ограничен в свободе самоопределения. Он не волен выбирать свою национальную принадлежность, гендер или класс – так как всё это уже определено обществом, к которому он принадлежит по рождению.
Несложно заметить, что основные элементы современного российского государственного дискурса в точности соответствуют этим консервативным установкам: борьба за суверенитет (настоящую свободу) против нормативных ограничений, навязываемых Западом; господство исторического обычая над буквой закона (Путин как «национальный лидер» важнее, чем сам институт президентской власти, описанный в Конституции).
С последовательно консервативных позиций российское государство атакует любые попытки революционных изменений, прямо проводя исторические параллели между событиями 1917 года и недавними «оранжевыми революциями» на постсоветском пространстве. Эта консервативная критика также постоянно подчёркивает, что доктринальный фанатизм революционеров, ставящих эксперименты над исторически сложившимися обществами, как правило, цинично используется внешнеполитическими соперниками для подрыва их национального суверенитета [96].
Сохранение подлинной свободы от искушения ложной свободы обеспечивается не только борьбой против революционной угрозы, но и постоянными мерами моральной дисциплины: ограничением права на аборт, криминализацией гомосексуальности и т. д. Риторика «защиты семейных ценностей», сопровождающая эти меры, напрямую отсылает к консервативной метафоре государства как большой семьи, все члены которой связаны взаимными обязательствами по отношению друг к другу. Можно сказать, что в этом отношении моральный дискурс является универсальной чертой неоконсервативной политики [97]– как в Америке времён президента Буша, так и в России Путина. В условиях углубляющегося действительного социального раскола он создаёт иллюзию единства, «морального большинства», сплочённого перед лицом внешних угроз и эгоизма меньшинств, требующих защиты своих гражданских прав.
Неолиберальный курс, последовательно проводившийся в России с начала 2000-х годов, представлял себя как чистую рациональность, свободную от идеологии и политики. Сокращение социальных обязательств, снижение налогов для крупного бизнеса, либеральную реформу трудового законодательства или коммерциализацию публичного сектора сопровождали аргументы технократического правительства, апеллировавшего исключительно к здравому смыслу и «опыту развитых стран». Президент, как фигура, символизирующая единство общества и преемственность его исторических форм, традиционно дистанцировался от публичной защиты неолиберального курса, предоставляя это «деполитизированному» правительству. Можно сказать, что такое разделение компетенций между президентом и правительством соответствует господствующему в России идеологическому консервативно- либеральному симбиозу в целом. Важно, что этот симбиоз лишён видимых противоречий, встраивая неолиберальную рациональность и консервативный политический стиль в идеологическое единство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
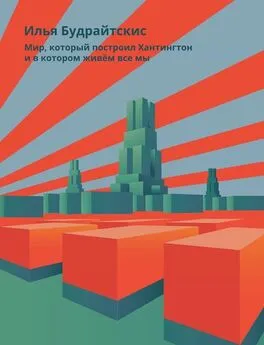
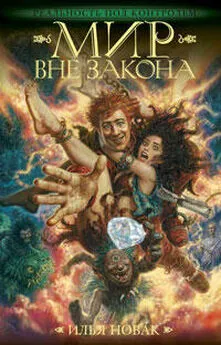
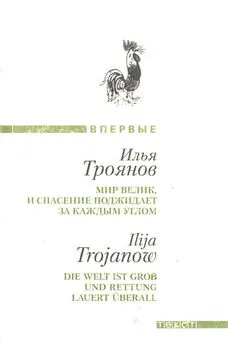


![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/1091188/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si.webp)