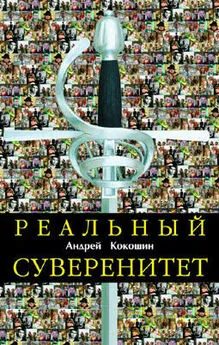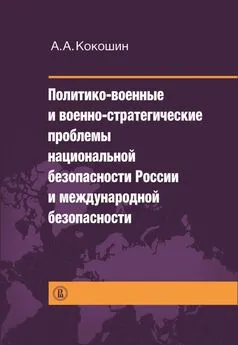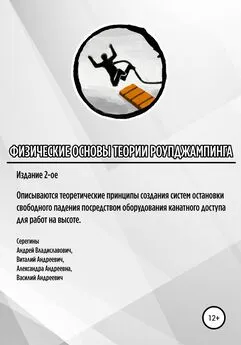Андрей Кокошин - Вопросы прикладной теории войны
- Название:Вопросы прикладной теории войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:978-5-7598-1765-9, 978-5-7598-1821-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кокошин - Вопросы прикладной теории войны краткое содержание
Автор предлагает к рассмотрению пять компонентов теории войны: война как продолжение политики; война как состояние общества и состояние определенного сегмента системы мировой политики; война как столкновение двух или более государственных структур и военных машин; война как сфера неопределенного, недостоверного; война как задача управления (руководства). В книге также представлена методология изучения войн как политического и социального феномена, изложены некоторые элементы теории войны и мира, дана характеристика традиционных и нетрадиционных методов военного противоборства.
Для обучающихся в магистратуре, аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре, преподавателей гражданских и военных вузов, а также для всех интересующихся политико-военной и военно-стратегической проблематикой.
Вопросы прикладной теории войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В целом в советских военно-теоретических разработках послевоенных десятилетий, носивших публичный характер, речь шла прежде всего о тотальной Третьей мировой войне.
Готовились к Третьей мировой войне с массированным применением ядерного оружия, а пришлось применять значительные силы в Венгрии в 1956 г. для подавления антикоммунистического мятежа и в Чехословакии в 1968 г. для стабилизации обстановки, для предотвращения «дрейфа» ЧССР в направлении выхода этой страны из Организации Варшавского договора.
В 1960-е – первой половине 1970-х годов СССР пришлось также косвенно участвовать во Вьетнамской войне, помогая Демократической Республике Вьетнам и южновьетнамским патриотическим силам в их борьбе против США и проамериканских сил в Южном Вьетнаме. Эта борьба, как известно, завершилась полным поражением США и поддерживаемых ими южновьетнамских режимов. Но не следует забывать, что она стоила огромных жертв вьетнамскому народу, оцениваемых в миллионы человеческих жизней.
В 1970-е годы оценки и размышления о ядерной войне и в СССР и в США в публичных вариантах в основном отошли в тень. В этот период (именуемый периодом «разрядки» международной напряженности) были заключены важные советско-американские соглашения в стратегической ядерной сфере и в области противоракетной обороны.
Немаловажную роль в восприятии проблем ПРО (за счет создания которой в масштабах всей территории страны и в США и в СССР хотели выйти из состояния «ядерного пата») играли политико-психологические факторы. Вспомним, что на встрече в Глассборо в 1967 г. первоначально реакция советской стороны в лице председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина на предложения американской стороны начать ограничения систем ПРО, сделанные министром обороны США Робертом Макнамарой, была весьма негативной, носила ярко выраженный эмоциональный характер.
Но несколько позднее советские специалисты в оборонно-промышленном комплексе и в военном ведомстве пришли к выводам о невозможности создания ПРО на территории страны ввиду перехода стратегических наступательных вооружений на оснащение ракет разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) и быстрого развития разнообразных средств преодоления ПРО [97] Первов М.А. Системы ракетно-космической обороны России создавались так. М.: АВИАРИУС-XXI, 2003. С. 143, 208.
.
Аналогичные выводы были сделаны учеными и специалистами в Соединенных Штатах, причем многие из них пришли к этому раньше, чем в СССР, поскольку США опережали Советский Союз в развитии межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) с РГЧ ИН.
Особое значение имел советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 г., который фиксировал отказ обеих сверхдержав от создания ПРО территории страны, способной защитить от массированного ракетно-ядерного удара – как в упреждающих, так и в ответных действиях. Путь к осознанию ситуации «ядерного пата», в основе чего лежал Договор по ПРО, был у обеих сторон сложным и даже болезненным. И это был отнюдь не линейный процесс.
Весомый, во многом принципиальный вклад в понимание тяжелейших последствий применения ядерного оружия внесли комплексные высокопрофессиональные исследования американских и советских ученых 1980-х годов по вопросам климатических и медико-биологических последствий ядерной войны. Эти исследования стали широко известны во многих странах во многом благодаря поддержке целого ряда политических и государственных деятелей. В СССР проведение таких исследований и их обнародование были поддержаны высшим руководством сначала в лице Л.И. Брежнева, затем Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева. Большую роль в проведении таких исследований, в их организации сыграли в Советском Союзе вице-президент АН СССР Е.П. Велихов и академик Е.И. Чазов. К сожалению, память о результатах этих исследований в современных условиях в определенной мере изгладилась из общественного сознания.
Появившиеся в XXI в. исследования по климатическим последствиям войн с применением ядерного оружия значительно менее известны. Среди них можно, в частности, отметить исследование Ратгерского университета (США) 2007 г., в котором оценивались катастрофические последствия для мирового сельского хозяйства применения всего лишь 1 % накопленных в разных странах ядерных боеприпасов. Это привело бы к резкому ухудшению в обеспечении продовольствием миллиардов людей [98] Robock A., Oman L., Stenchikov G.L . Nuclear Winter Revisited with a Modern Climate Model and Current Nuclear Arsenals: Still Catastrophic Consequences // Journal of Geophysical Research. Atmospheres. 2007. Vol. 112. No. D13107. (дата обращения – 23.10.2016); Robock A., Toon O . Self-assured Destruction: The Climate Impacts of Nuclear War // Bulletin of the Atomic Scientists, 2012. Vol. 68. No. 5. P. 66–74; Mills M., Toon O., Lee-Taylor J., Robock A . Multi-decadal Global Cooling and Unprecedented Ozone Loss Following a Regional Nuclear Conf lict // Earth’s Future. 2014. Vol. 2. No. 4. P. 161–176.
.
В начале 1980-х годов советско-американские отношения переживали очередной период обострения с ростом непосредственной военно-стратегической конфронтации.
В 1981 г. на стратегическом командно-штабном учении под руководством министра обороны СССР Д.Ф. Устинова был поставлен вопрос о возможности крупномасштабной обычной войны между СССР и США, НАТО и ОВД. При этом предусматривалось, что военные действия обычными средствами в любой момент могут перерасти в ядерную войну. Аналогичные взгляды присутствовали и в военной теории и военных планах США и их союзников. Так, в 1980-е годы на крупнейших военных учениях НАТО (особенно «Отэм фордж») отрабатывались вопросы ведения войны с поэтапной эскалацией от обычной до неограниченной ядерной войны [99] Стратегические решения и Вооруженные Силы: новое прочтение. Т. I / под ред. В.А. Золотарева. М.: МБОФ «Победа-1945», 2000. С. 407–409.
.
В 1982 г. член Политбюро ЦК КПСС министр обороны СССР Д.Ф. Устинов в специальной публикации писал: «Советский Союз не делает ставку на победу в ядерной войне» [100] Устинов Д.Ф. Отвести угрозу ядерной войны. М.: Политиздат, 1982. С. 7.
. Это было весьма важным, во многом даже необычным заявлением для руководителя военного ведомства СССР. Таких заявлений не делал министр обороны СССР и в период разрядки 1970-х годов. Д.Ф. Устинов при этом пояснял, что «понимание невозможности взять верх в таком конфликте – это аргумент в пользу отказа от применения ядерного оружия первым [101] Там же.
. Тем самым он еще раз отметил приверженность СССР выдвинутому незадолго до этого доктринальному положению о неприменении ядерного оружия первыми [102] В Военной доктрине Российской Федерации говорится следующее: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В этом российском документе говорится также о том, что «Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации» (п. 27) // Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г., № Пр-2976. (дата обращения – 17.05.2017).
.
Интервал:
Закладка: