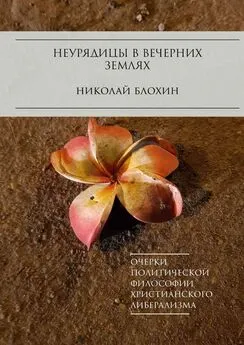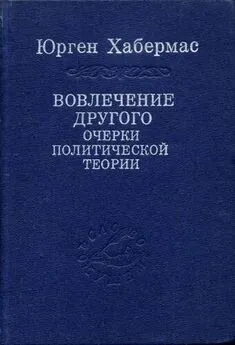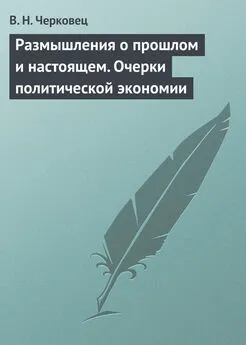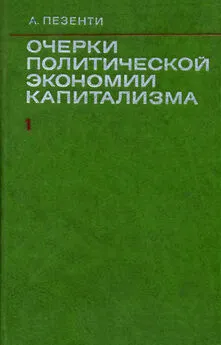Николай Блохин - Неурядицы в вечерних землях. Очерки политической философии христианского либерализма
- Название:Неурядицы в вечерних землях. Очерки политической философии христианского либерализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005318572
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Блохин - Неурядицы в вечерних землях. Очерки политической философии христианского либерализма краткое содержание
Неурядицы в вечерних землях. Очерки политической философии христианского либерализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другими словами, до тех пор, пока люди не приобрели божественного всеведения по отношению к абсолютно всем обстоятельствам прошлого, настоящего и будущего, невозможно внедрять и дорабатывать новые плодотворные идеи без метода проб и ошибок.
Однако управление экономикой в соответствии с единым планом (вне зависимости от того, кто и как этот план разрабатывает) предполагает, что каждое предприятие определенным образом вписано в предусмотренные планом производственные цепочки.
Планом определено, какие ресурсы предприятие должно получить, и какую продукцию оно должно поставить другим предприятиям или конечным потребителям. Каждый случай, когда предприятие произвело что-то «не то», нарушает функционирование всей производственной цепочки. Поэтому такой системе противопоказаны эксперименты с новым, которое или оправдается, или нет. Максимум, что здесь можно сделать – решением центральной планирующей инстанции выделить какой-то небольшой процент производственных мощностей в особую экспериментальную зону.
Напротив, если ресурсы распределены между разными частными предпринимателями, принимающими решения независимо друг от друга и конкурирующими за деньги потребителя, все идеи, проекты, производственные процессы, технологии, товары, услуги непрерывно проверяются методом проб и ошибок. Это происходит во всей экономике, а не только в специально огороженных экспериментальных зонах. По сути дела, каждое частное предприятие, работающее в условиях конкуренции, и является непрерывным экспериментом – достаточно ли полезна его продукция? Не слишком ли высоки его издержки? Поэтому конкурирующие предприятия естественным образом создают запрос на новые идеи, чтобы экспериментировать и с ними тоже.
Вернёмся теперь к Энтони Саттону. Предпринятый экскурс в теорию даёт ответ на вопрос: какую же историю описывает Саттон в своем трёхтомнике? Нет, это не история об «отсталости» России. Это история о том, каким способом руководители СССР компенсировали неспособность социалистической экономики быть пространством эксперимента, неспособность постоянно и в широких масштабах проверять, дорабатывать и применять инновации. Они это делали, копируя производственные процессы, разработанные в странах с рыночной экономикой.
«…очевидное преимущество копирования состоит в том, что можно внедрить желаемый производственный процесс, не инвестируя в исследование и разработки. Кроме того, есть ещё более важное, но менее очевидное преимущество: нет необходимости инвестировать в процессы и эксперименты, которые могут оказаться бесплодными. Чтобы разработать один успешный [производственный] процесс, может потребоваться исследовать и частично осуществлять десятки, а то и сотни подобных процессов. Большинство этих попыток прекращаются уже на стадии исследований» 22 22 Sutton A. Western Technology and Soviet Economic Development 1930 to 1945. P.315—316.
.
Советская экономика – пределы роста
Без особых преувеличений можно сказать, что вклад Саттона позволяет осмыслить всю экономическую историю СССР – в той мере, в какой она вообще может быть известна. Последняя оговорка очень важна. Советская статистика снабжает нас множеством данных о продукции советского народного хозяйства. Но как понимать эти данные, выраженные в денежных ценах?
В ситуации, когда торгуют независимые друг от друга продавцы и покупатели, денежная цена – это условие сделки, на котором сошлись обе стороны. То, что покупатель согласился купить именно этот телефон, или чайник, или корзинку клубники, причём именно за эту цену – хотя мог купить что-нибудь другое, а мог и поберечь деньги – свидетельствует, насколько высоко он оценил свою покупку.
Следовательно, если в нынешнем году продано чайников на общую сумму в X рублей – это значит, что всю эту продукцию потребители сочли полезной. Информация о совокупной стоимости чайников, проданных в этом году – это информация об определенном количестве полезной продукции.
Но что нам сообщает, например, фраза «советское станкостроение в 19… году произвело продукции общей стоимостью столько-то рублей»? Эти станки не продавались на рынке, а распределялись среди потребителей директивным образом. В принципе, производители не должны были решать, кому поставить продукцию, а потребители – у кого её получить (при этом, конечно, в реальной советской экономике всегда существовала серая зона, пространство многообразных манипуляций). Потребители, получающие эту продукцию, должны были перевести определенную сумму со своего счёта на счёт станкостроительного предприятия. Какую сумму переводить, решали, опять же, не потребители и не продавцы, а центральное руководство, назначившее такие-то цены. Эти директивные цены ничего не говорят о том, по какой цене эти станки продавались и покупались бы на свободном рынке. Может быть, реальная цена на реальном рынке оказалась бы ниже. А может быть – и выше.
Другими словами, там, где товары не продаются и не покупаются по свободному выбору продавцов и покупателей, цены несут только одну информацию: сама планирующая инстанция таким-то образом оценивает такие-то блага 23 23 Mises L. Socialism. An Economic and Sociological Analysis. [электронное воспроизведение издания: New Haven: Yale University Press, 1951]. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, [б. г.]. P. 132. URL: https://mises.org/library/socialism-economic-and-sociological-analysis (дата обращения: 12.01.2021).
.
«Деньги», с которыми работали советские планирующие инстанции, были, по сути дела, просто счётными единицами. Их использовали, чтобы осуществлять агрегирование разнородных натуральных показателей. Грубо говоря, чтобы не складывать килограммы со штуками, а литры с километрами, все эти килограммы и километры переводили в рубли. Но поскольку никаких необходимых соотношений между натуральными показателями и «счётными» рублями нет, такой перевод чреват как непреднамеренными искажениями, так и сознательными манипуляциями заинтересованных сторон. Поэтому даже и о физическом объеме произведенной продукции денежные показатели советской статистики свидетельствуют весьма ненадежным образом. Историкам советской экономики приходится работать с данными, которые им предоставляет советская статистика – с «денежными» показателями – пытаясь с помощью тех или иных методик делать поправки на искажения, возникавшие при назначении «цен». Разные исследователи используют разные методики. Поэтому неудивительно, что в оценках темпов роста и других показателей советского производства между исследователями нет единства 24 24 Обсуждение этой проблематики см. в Harrison M. Soviet Industrial Production, 1928 to 1955: Real Growth and Hidden Inflation // Journal of Comparative Economics. 2000. Volume 28, Issue 1. P. 134—55.
.
Интервал:
Закладка: