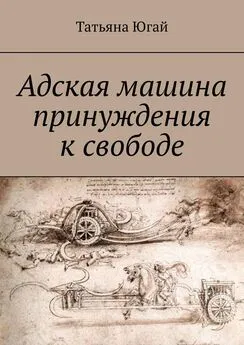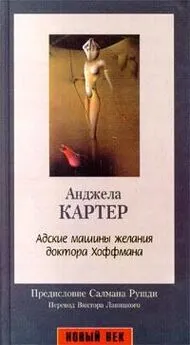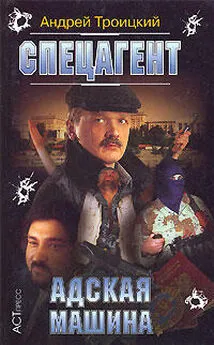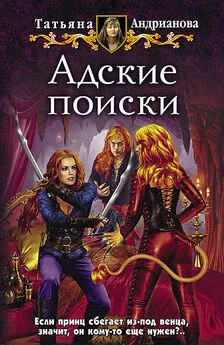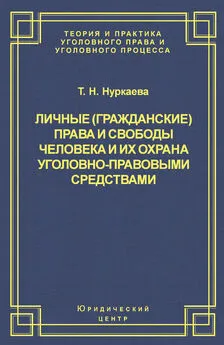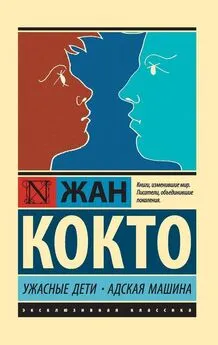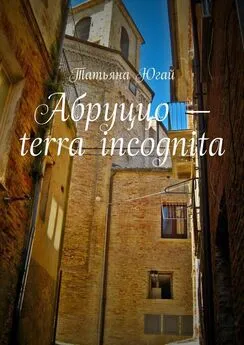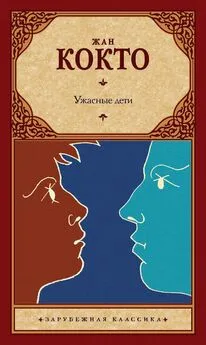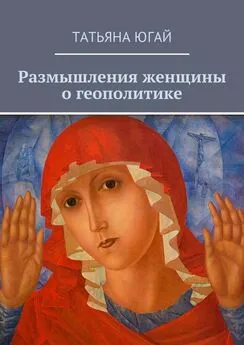Татьяна Югай - Адская машина принуждения к свободе
- Название:Адская машина принуждения к свободе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005101440
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Югай - Адская машина принуждения к свободе краткое содержание
Адская машина принуждения к свободе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аслунд, современный Воланд, в статье с бравурным названием «История успеха России», опубликованной в 1994 году в Foreign Affairs победно рапортует: «Невероятно, но большая часть российской экономики… была приватизирована всего за два года. Россия уже стала рыночной экономикой, но она находится в процессе давно назревшей и масштабной реструктуризации. Россия претерпела фундаментальные изменения и находится на правильном пути… Основные политические институты, такие как выборы президента, парламент и западная конституция уже существуют» [72].
Для обоснования радикальных реформ Аслунд взял на вооружение концепцию рентоориентированного поведения, которая является ответвлением теории общественного выбора. Это явление было впервые рассмотрено Гордоном Таллоком и об этом речь пойдет далее. В одном из интервью, Аслунд дает следующее определение: «Рентоориентированное поведение приносит прибыль выше рыночной, нежели при конкурентном рыночном равновесии. Рентоискательство – это попытка занять привилегированное положение на рынке с помощью государственных субсидий или нормативных актов» [71, c.2].
Применительно к России Аслунд использует понятие рентоискательства, чтобы обосновать необходимость шоковой терапии. Его логика в буквальном смысле убийственна, хотя достаточно примитивна. Так, по его мнению, рентоориентированное поведение было свойственно социалистической экономике, особенно в последние годы существования СССР, а на его развалинах буйно разрослось. [71, c.2]. Под рентоискателями он, начитавшись Восленского, понимает бывшую советскую Номенклатуру и, особенно, «красных директоров», столь ненавистных российским реформаторам и их западным советникам. Ранее я уже упоминала, что Гайдар в книге «Государство и эволюция» «анонимно» воспроизводит теории неоинституционализма, не приводя ни одной ссылки на них, что весьма странно для научного работника, а тем более руководителя НИИ. Одним из таких «безымянных» концептов, на который он опирается в книге, как раз и является теория рентоориентированного поведения.
Аслунд пишет: «Фундаментальная политическая проблема посткоммунистических стран заключается в том, что коммунистическое государство работало на небольшую элиту под названием Номенклатура, а не на людей… В конце коммунизма рентоискательство взлетело до небес, потому что власть имущие чрезмерно эксплуатировали слабость экономических и политических институтов, в то время как общество было в смятении. Поэтому посткоммунистический переход потребовал от реформаторов взять контроль над рентоискательством, которое усиливало экономическую и политическую власть Номенклатуры» [70, c.312].
Он утверждает, что «наихудшая угроза для посткоммунистической трансформации состоит в том, что группа, стремящаяся к извлечению ренты, консолидирует свою власть в условиях диктатуры, поддерживая окаменевшую контролируемую государством систему…, и чтобы покончить с ней требуется еще одна революция». По его мнению, «желательно максимальное нарушение непрерывности, чтобы вывести общество из старого государства и избежать дорогостоящего частично реформированного государства. Поэтому необходим сильный шок как на уровне общества, так и на уровне личности». Он с удовлетворением отмечает, что «десятилетие посткоммунистических преобразований подчеркивает его важность и многочисленные функции. У шока была жизненно важная психологическая функция, заставившая всех изменить свое мнение об экономике. В бывшем СССР прорыв в мышлении о [необходимости] макроэкономической стабилизации произошел только после обвала российской валюты в октябре 1994 года, который нанес необходимый шок российскому истеблишменту и заставил всерьез задуматься о стабилизации» [70, c.316].
Аслунд цинично отмечает, что «Россия подверглась многочисленным шокам: внешний дефолт, падение государственных доходов, резкое сокращение внешней торговли и смена политического режима. Эти потрясения открыли окно возможностей для фундаментальных системных изменений» [73, c.7]. Однако далее он весьма садистски сожалеет, что шок начала 1990-х был все-таки недостаточно сильным и восторженно приветствовал финансовый кризис 1998 года, как новый сильный шок. По его логике, «механизм извлечения ренты» сохранил устойчивость, и чтобы «разрушить его, действительно нужен такой шок, который бывает, когда дефицит страны слишком велик и [сохраняется] слишком долго, и сумма долгового бремени становится чрезмерной, как в случае с Болгарией в 1996 году и Россией в 1998 году. Именно этот тип финансового кризиса приносит изменения» [71, c.2].
Итак, совет первый, реформы должны быть как можно более быстрыми, радикальными и жестокими. Второй совет тоже напрямую вытекает из концепции рентоориентированного поведения. Необходимо как можно скорее лишить государство экономического фундамента, т.е. приватизировать государственную собственность, а заодно пресечь рентоискательство старой номенклатуры [70, c.316- 317]. При этом для Аслунда, как и для Гайдара, приватизация остается чисто политическим, а не экономическим проектом.
Следует отметить, что с концепцией рентоориентированного поведения произошел большой конфуз. Это вынужден был признать сам Аслунд. На конференции Всемирного Банка в 1999 году он заявил: «Основная проблема России заключается в том, что несколько человек очень разбогатели на частичных реформах и купили большую часть российской политики – политиков и чиновников. Чтобы сохранить ренту, нувориши используют свою экономическую власть для предотвращения либеральных экономических реформ, которые могли бы обеспечить России экономический рост и благосостояние. Посткоммунистический период в России характеризовался борьбой между реформой и погоней за рентой. К сожалению, реформаторы в основном проиграли». Пикантность ситуации заключается в том, что теперь в рентоискательстве он обвиняет не старую коммунистическую номенклатуру, а новоиспеченных (самими же реформаторами) олигархов. «Опасение заключается в том, что новые крупные российские бизнесмены переняли поведение старых красных директоров, живших за счет государства, а не рынка» [73, c.3, 45].
И далее, Аслунд в неуклюжей попытке оправдать младореформаторов оказывает им медвежью услугу и наносит смертельный удар по их мантре об эффективном частном собственнике. Он пишет: «России удалось осуществить передачу большинства прав собственности на крупные и средние предприятия». Иначе говоря, права собственности были отняты у государства и переданы новым собственникам, однако, заветная теорема Коуза, на которую уповали Гайдар и Шлейфер, так и не сработала. Новые собственники пошли по старой протоптанной дорожке, т.е. присосались к скудеющей государственной кормушке. Вывод Аслунда неутешителен: «Приватизация не является альтернативой дерегулированию, хотя она может способствовать дерегулированию в будущем. Приватизация также не была эффективным препятствием для рентоискательства. Во время финансового кризиса 1998 года российские магнаты вели себя не как капиталисты, которые заботятся о стоимости своей собственности, а как рентоискатели, которые думали только о краткосрочных денежных потоках» [73, c.37]. Что собственно и требовалось доказать! По сути, это признание – типичный пример унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Правда, пострадало при этом население России за минусом кучки олигархов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: