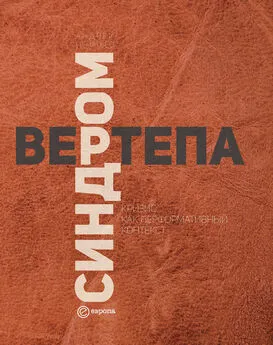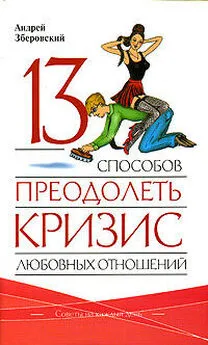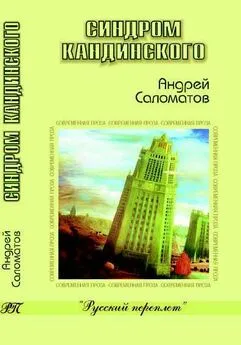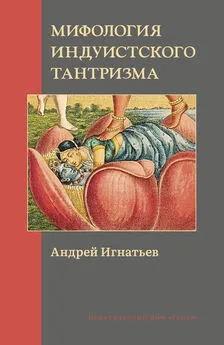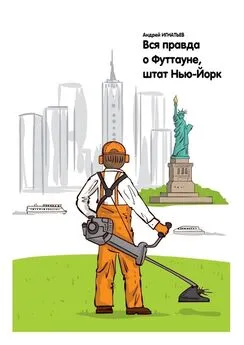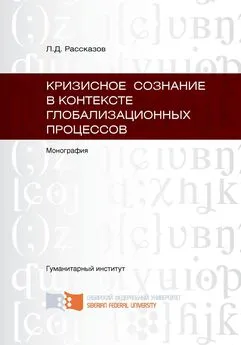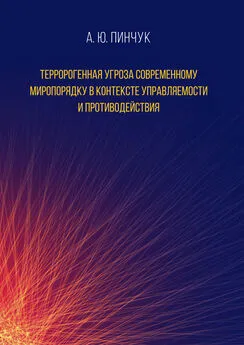Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Название:Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6043661-0-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст краткое содержание
Текст печатается в авторской редакции.
Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чуть лучше исследованы порядки и стратегии, связанные с различного типа субкультурами, то есть сообществами, которые практикуют образцы поведения, понятия и ценности, заметно отклоняющиеся от общепринятых; для советского общества такого рода структуры и практики не были совсем уже новостью [55] Так, например, в советском обществе издавна присутствовали субкультуры инвалидов и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Нередко можно было натолкнуться на около-криминальные сообщества, прежде всего субкультуры нищих. Местами на какое-то время возникали субкультуры мигрантов, получившие такое широкое распространение уже в «нулевые» и «надцатые» годы нынешнего века. См., в частности: Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность. М.: Научный мир, 2007.
, однако к исходу 70-х они приобретают новое качество, претендуя не столько на защиту делинквентов от идеологического диктата или надзора и социального контроля вообще, как это было прежде [56] О технике подобного рода защит см., например: Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style. L.-N.Y.: Routledge, 1987; Hiding in the Light. On Images and Things. L.-N.Y.: Routledge, 1988.
, сколько на артикуляцию и пролиферацию какого-то альтернативного социального порядка со своими особыми идентичностями или критериями оценки и практиками наделения статусом [57] Тут кстати вспомнить Б. Гребенщикова, который в интервью некоему зарубежному журналу объяснял выбор названия для своей рок-группы примерно так: «Мы как рыбы в аквариуме: живем на виду у всех, но в среде, принципиально отличной от окружающей». Такая же претензия хорошо заметна и в фильме Сергея Соловьева «Асса», где, кстати, взаимопроницае-мость субкультур и сообществ «черного рынка» представлена как нечто само собой разумеющееся, факт местного повседневного опыта.
. Раньше других, еще где-то в начале 70-х, появились хиппи, которые для постороннего взгляда долгое время оставались неотличимы от обычной артистической богемы, благо по внешнему виду (американизированный джинсовый «прикид», длинный «хаер»), бытовым привычкам и характерному «антибуржуазному» дискурсу эти два сообщества не сильно отличались друг от друга [58] О субкультуре хиппи см., в частности: Щепанская Т.Б. Система: Тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004.
, на персональном уровне в значительной степени пересекались, а главное – местные хиппи, в отличие от своих зарубежных «соплеменников», всячески избегали «светиться», то есть появляться в поле зрения медиа, властей, широкой публики или других субъектов «публичной сферы», несколько позднее, уже к концу декады, появились панки и «металлисты», которые отличались от хиппи не только своим внешним видом, но и достаточно агрессивным хабитусом, а также очевидными и вполне эффективными притязаниями на публичные интерактивные амплуа. Как и субкультуры 60-х, хиппи, панки и «металлисты» представляли собой континджент-ные сообщества молодежи, которую отличала своего рода аддикция к инокультурным образцам поведения, идеологемам и ценностям, превращавшая их в особого рода святыни [59] См., в частности: Yinger J.M. Presidential Address: Countercultures and Social Change // American Sociological Review. 1977. Vol. 42. Р. 833–853.
, как и старшее поколение «новаторов», новые субкультуры рассматривали определенного рода музыку в качестве очень важного социального идентификатора [60] Как мне рассказывали, практики знакомства с новым человеком на «площадке» обычно начинались с вопроса «что слушаешь?», то есть какая именно рок-группа, музыкант, альбом или даже конкретная пьеса может быть указана как артикуляция идентичности в дискурсе, последующее развитие отношений, как правило, очень сильно зависело от полученного ответа, который рассматривался как своего рода пароль.
, а тех, кто ее исполнял, – как образец для подражания или даже культовую фигуру, однако предметом заимствования были уже не формы развлечения и досуга, как прежде, а специфический образ жизни в целом, чьи парадигмальные образцы демонстрировал уже упоминавшийся ранее фильм Easy Rider, знакомство с этим фильмом и его название даже как бы стали паролем.
При всем различии притязаний, характерных для сообществ «черного рынка» и субкультур, или систем и практик вознаграждения, которые здесь складывались, на практике те и другие «параллельные структуры» выполняли очень похожие, если не идентичные, социальные функции, вследствие этого достаточно часто возникали не только проблемные ситуации, связанные с выходом субкультур на «черный рынок» услуг, кадров или артефактов, но и всякого рода сообщества, которые обладали признаками их обоих. В качестве наиболее характерного примера таких промежуточных сообществ я бы указал на субкультуры байкеров и так называемых люберов, то есть сообщества, образ жизни которых с равным основанием можно было рассматривать и как альтернативу сложившемуся социальному порядку, притом достаточно радикальную, и как типичное отклоняющееся поведение или даже кодифицированные преступные действия – двусмысленность, которая вообще характерна для «лиминальных» социальных практик [61] См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.
. Помимо этого, стоит обратить внимание будущих исследователей феномена на политические и религиозные субкультуры, в советское время сохранявшие теневой характер [62] Тут стоит сослаться по крайней мере на две очень важные работы: Петровская Е. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012; Anthony P. Cohen. The Symbolic Construction of Community. L.-N.Y.: Routledge, 1985.
, а также на сообщества разного уровня легальности [63] Если кто не знает или забыл, в советское время изучение восточных единоборств было запрещено (точнее – требовало специального допуска), однако «под крышей» спецслужб прятались от надзора многочисленные сообщества, которые обеспечивали такую возможность практически каждому, кто располагал соответствующими контактами, в аналогичном положении находились и религиозные сообщества, ориентированные на заграничные центры (католики, например).
, членство в которых обеспечивало более или менее широкое освоение практик рукопашного боя, позднее все эти субкультуры, граница между которыми достаточно часто бывала весьма условной, сыграли очень важную роль в идеологическом и кадровом обеспечении политического транзита.
Там у них все эти альтернативные модели образа жизни считаются симптоматикой кризиса, переживаемого «западными» обществами в условиях глобальных социальных изменений, в советское время его обычно диагностировали как «общий кризис капитализма», а в наши дни рассматривают как диффузное и вялотекущее разрушение modern цивилизации как таковой [64] Этому кругу вопросов посвящена огромная литература, на сколько-нибудь представительный обзор которой я даже не претендую. Сошлюсь только на одну вполне информативную публикацию, которая есть в моей домашней библиотеке: De Curtis A. (ed.). Rock & Roll and Culture. The South Atlantic Quarterly // Fall. 1991. Vol. 90. N 4. Durham: Duke Univ. Press, 1991.
, безотносительно к формам экономики или характеру политического режима. В нашей стране модели образа жизни, предлагаемые субкультурами, в значительной степени оставались разновидностью карго-культа, однако связь этого культа и его символов или практик с групповым травматическим опытом местного «среднего класса», на мой взгляд, вполне очевидна [65] К началу 80-х кризис отечественного «среднего класса», трактуемый как свидетельство общего кризиса «системы», становится едва ли не центральной темой киноискусства: об этом, в частности, «Полеты во сне и наяву», «Осенний марафон», «Парад планет», «Послесловие» и еще целый ряд не столь успешных фильмов. Тут кстати еще раз сослаться на Милтона Йин-гера: «…хиппи… являются примерами par excellence… контркультуры, чей raison d’etre… состоит в инверсии ее членами определенных ключевых ценностей и практик американского среднего класса». См.: Yinger J.M. Op. cit. Р. 835.
. Для советского общества, вопреки распространенному предрассудку, 70-е годы не были временем застоя в буквальном смысле этого слова, но скорее вялотекущего и диффузного конфликта между социальными переменами, которые принято было именовать «научно-техническая революция», и так называемой «прусской» моделью развития [66] Имеется в виду оппозиция «американской» и «прусской» моделей развития, которую В.И. Ленин вводит в одной из своих работ (какой именно – забыл, но в советское время эта оппозиция была идиоматическим общим местом), сколько понимаю, речь идет о противопоставлении моделей развития, предполагающих либеральный/авторитарный политический режим, а также его ориентацию на расширение территории / рост финансового и социального капитала per capita. Что-нибудь похожее, скорее всего, есть у Карла Шмитта, в терминах времен «перестройки» это оппозиция интенсивной/экстенсивной стратегий развития: Лапин Н.И., Беляева Л.В. (отв. ред.). Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. М.: ИФРАН, 1994.
, которая именно в этот период стала идеологической, политической и экономической догмой, тоже, по сути дела, «предметом веры» или, по крайней мере, невротической обсессией: с одной стороны, именно в этот период советское общество претерпело весьма основательные структурные сдвиги, которые, собственно, и обусловили возникновение отечественного «среднего класса» с его ориентацией на достаточно широкую персональную автономию [67] См.: Гладыш А. (Игнатьев А.А.). Структуры Лабиринта: отчет о полевых наблюдениях. М.: Ad Marginem, 1994.
, однако с другой – эти сдвиги осуществлялись под неусыпным и очень жестким контролем элит, заинтересованных в сохранении чисто консервативных форм культуры, которые бы исключали вовсе или достаточно жестко ограничивали перспективу частной, то есть личной или групповой, инициативы – не случайно именно в этот период слово «самодеятельность» или его дериваты стало расхожим пейоративом, сохранившим такую прагматику по сей день. Как и прежде, в советском обществе все эти изменения начались примерно тогда же, что и там у них, а если дальнейшее развитие событий заметно отличается как по сценарию, так и по достигнутому результату, то решающую роль здесь опять-таки сыграли различия между их «подразумеваемыми обстоятельствами», как сказал бы Станиславский: у нас эти различия отнюдь не остановили изменений, о которых речь, однако существенно их замедлили, а главное – в очередной раз вытеснили их на социальную периферию общества, в результате чего движущей силой изменений стали маргиналы, а их предпосылкой – различные формулы компромисса между нормативными практиками господства и структурами повседневной жизни, то есть коллизия, хорошо объясняющая качество тогдашних политических анекдотов. Во всяком случае, задним числом очевидно, что даже проект середины 60-х, известный как Пражская весна, или его реплика конца 80-х, известная как перестройка, были попыткой нащупать формулу компромисса между императивами советской политической системы и таковыми же местного «среднего класса», окончательно сформировавшегося как раз к этому времени [68] Именно этот компромисс и оказался утопией, взлет и падение которой демонстрирует история отечественных рок-групп.
. Что же до крушения этой системы в начале 90-х, то оно произошло благодаря вовлечению в революционный процесс различных группировок «номенклатуры», стремившихся преобразовать корпоративное владение «орудиями и средствами производства», как говаривали прежде, в частную собственность и свой личный капитал, обе этих проблемы, как нетрудно заметить, актуальны по сей день.
Интервал:
Закладка: