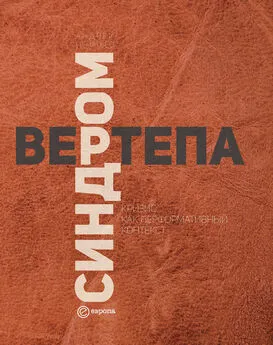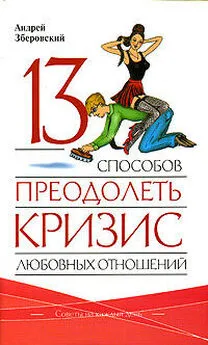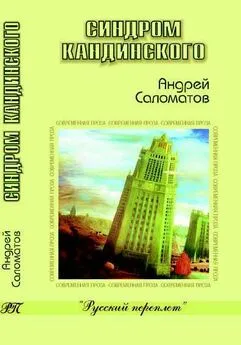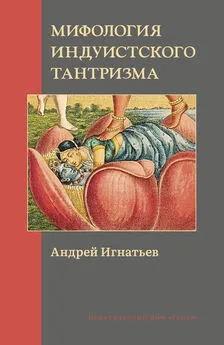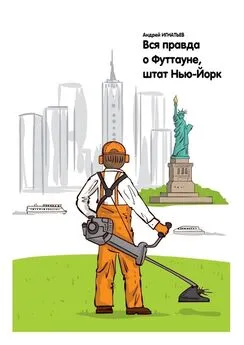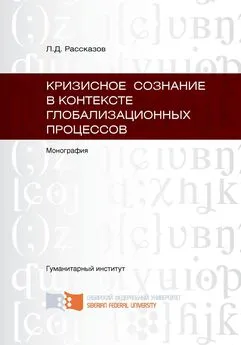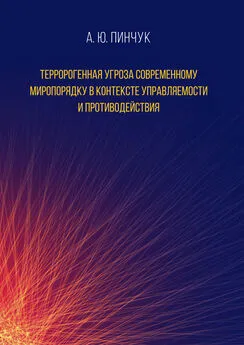Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Название:Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6043661-0-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст краткое содержание
Текст печатается в авторской редакции.
Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти процессы объясняют не только многое из того, что к исходу 80-х случилось с отечественной экономикой или политической системой, но и достаточно существенные изменения в характере публики, которая покупала музыкальные записи или заполняла концертные залы, а также в ее ожиданиях, связанных с такого рода практиками: если в 60-е годы эта публика представляла собой классический «мультитюд», то есть множество индивидов, объединяемых исключительно сходными музыкальными вкусами, а ее ожидания или аффекты в значительной степени сводились к чисто потребительским (из-за чего реальными лидерами субкультур «первого поколения» оказались не музыканты, а поставщики записей), то в 80-е такая публика, напротив, представляла собой автономные и достаточно устойчивые сообщества, чьи ценности, понятия и образцы поведения в совокупности конституируют некий альтернативный образ жизни в целом, а не только предпочтительную форму досуга. В таком контексте субкультура приобретает весьма специфические функции, связанные уже не столько с поддержанием компромисса между общепринятыми и девиантными сценариями поведения, как это было прежде, сколько с обеспечением персонального или группового транзита от сложившегося к альтернативному социальному порядку [69] Все эти весьма специфические изменения в прагматике субкультур, на мой взгляд, проясняют одну из самых загадочных идиом, получивших хождение в 80-е годы, – разграничение между «рок-музыкой», или просто «роком», и «попсой»: если у хиппи, панков и «металлистов» субкультура переживается как своего рода культовое сообщество, которое предполагает свои особые святыни, обряды перехода и табу, отсылающие скорее к партикулярному опыту «скверны» и «чистоты», нежели к общепризнанным эстетическим или даже чисто техническим критериям, то у музыкантов и публики, ориентированных на структуры «черного рынка», из которых позднее вырос нынешний российский шоу-бизнес, сохраняется и традиционная социальная идентичность музыканта как артиста, и привычные формы его интеракции с публикой, и его ориентация на такие общепринятые критерии успеха, как сборы, гонорары, внимание прессы, тиражи записей или какие-то другие хорошо наблюдаемые артефакты социального признания.
, включая исход из примордиальных сообществ (семьи, прежде всего), поддержу соответствующих инноваций, а также практики, направленные на преодоление кризисов идентичности, в первую очередь – ритуал, обычно именуемый session и предполагающий коллективное переживание музыки в качестве ее исполнителя, слушателя или танцора; соответственно, музыка, текст или сценический перформанс утрачивают характер самодовлеющего артефакта, музыкант перестает быть только или даже в первую очередь артистом и становится мистагогом, тогда как публика, в свою очередь, превращается в сообщество инициантов, посвящаемых в новый образ жизни.
Симбиоз между музыкантом и его публикой, вообще говоря, предполагаемый не только субкультурами, но и «теневым» шоу-бизнесом с его культом «звезд эстрады», очевидно, представлял собой очередную формулу компромисса между «новаторами» от культуры и «архаистами» от советской идеологической традиции; на практике этот компромисс способствовал окончательной повсеместной русификации текстов и мелоса, а также превратил артиста в политически значимую фигуру [70] Тут кстати вспомнить и попытки Сергея «Паука» Троицкого участвовать в выборах мэра нескольких разных городов, и вполне серьезное намерение покойного Жана Сагадеева, лидера рок-группы «ЭСТ», основать политическую партию, и даже награждение Б. Гребенщикова орденом «За заслуги перед Отечеством», за рубежом такого сорта притязания или награды давно уже стали привычным общим местом.
. Тем не менее этот же самый компромисс означал, что пространством, в границах которого новая музыкальная культура вправе рассчитывать на социальное признание, а ее приверженцы – на вознаграждение и карьеру, становится достаточно компактное гетто; создание московского или питерского рок-клуба позволило объединить такие гетто, поставить их под контроль «смотрящих» и тем самым придать им относительную легальность, однако перспектива осталась такой же, какой была.
Как видим, долговременная, на протяжении нескольких десятилетий, и весьма энергичная попытка имплантации «западной» музыкальной культуры в советское общество, несмотря на свои относительные успехи в 70-е годы, завершилась практически безрезультатно, в той же амбивалентной исходной ситуации конфликта между «новаторами» от культуры и «архаистами» от политической идеологии, в какой началась, только что оформленной как «гетто», то есть особого рода социальный институт. В утешение энтузиастам «модернизации» или других подобного рода затей следует отметить, что это вообще их оптимальный исход, примерно таким же, как правило, оказывается результат любой целенаправленной частной попытки изменить традиционное общество, внедряя в него различного сорта новшества; конечно, советское общество трудно рассматривать как традиционное, однако по своей реакции на инокультурные заимствования то и другое мало отличается друг от друга [71] Одним из объяснений этого сходства является роль идеократии, все равно – социалистического, неолиберального, клерикального или еще какого-либо типа как субститута традиции в контекстах ее системного кризиса. См.: Игнатьев А.А. Ценности науки и традиционное общество (социокультурные предпосылки радикального политического дискурса) // Вопросы философии. 1991. № 4. С. 3–30.
. Тут, конечно, есть более общая и очень серьезная проблема, которая требует специального исследования: как уже сказано в самом начале главы, заимствовали все и всегда, это обычная практика, но тут у нас заимствования обычно так и остаются экспонатом кунсткамеры, они, безусловно, порождают какую-то не очень долгую «инновационную волну», однако не укореняются и не дают жизнеспособных побегов, но скорее оказываются стимулом или прецедентом для очень постепенного формирования чего-то аналогичного своего. Во всяком случае, коллизия, о которой я рассказываю, разрешилась не потому, что проблема имплантации «западной» музыкальной культуры в советское общество где-то к середине 90-х была решена, а из-за исчезновения тех обстоятельств, которые ее породили [72] В данном случае середина 90-х годов обозначена как момент реального, а не номинального завершения процесса, структурированного как последовательность 12-летних циклов; строго говоря, первый, начальный, период движения, о котором речь в данной статье, охватывает период с 1960 по 1972 год; второй, кульминационный, – с 1973 по 1984 год; наконец, третий, завершающий, – с 1985 по 1996 год. Исчерпание динамики этого процесса было ознаменовано целым рядом «знаковых» событий, включая награждение одних и уход или эмиграцию других. См.: Игнатьев А. Хроноскоп, или Топография социального признания. М.: Три квадрата, 2008.
, прежде всего – идеологического диктата партии; напротив, различные «параллельные структуры» с их специфическими практиками не только сохранились, но и были легализованы как повседневная социальная рутина шоу-бизнеса, однако это уже совсем другая история.
Интервал:
Закладка: