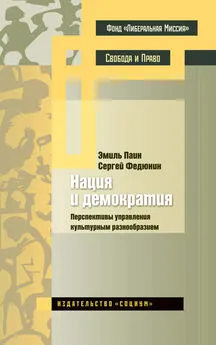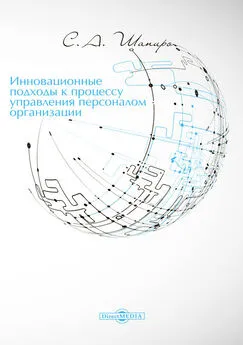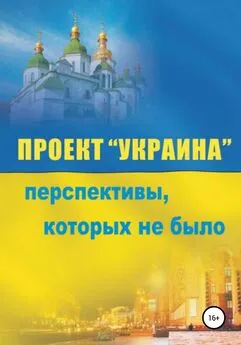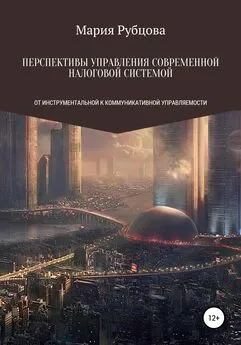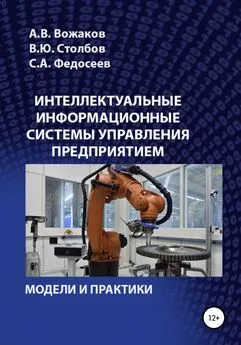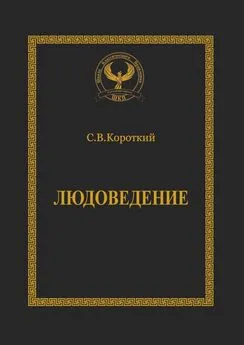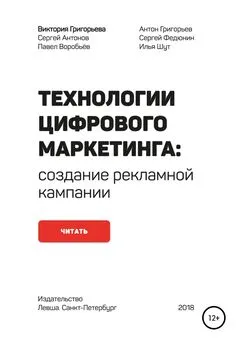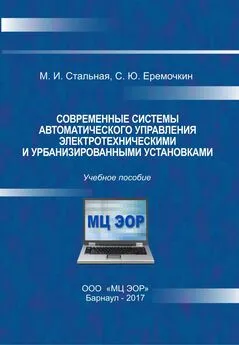Сергей Федюнин - Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием
- Название:Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва, Челябинск
- ISBN:978-5-91603-617-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Федюнин - Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием краткое содержание
Сегодня мы видим, что в раздробленных по этническому и племенному признаку странах Азии и Африки демократия не приживается. В России, где становление политической нации осложняется воспроизводством имперского синдрома, а национальное единство имитируется, демократические институты весьма неустойчивы и фрагментарны. В странах Евросоюза и США проявившийся на рубеже тысячелетий кризис национально-гражданской идентичности («восстание элит» и «популизм масс») тесно связан с эрозией демократических принципов, усиливающей политические позиции неопопулистов. Авторы предлагают сравнительный анализ особенностей национально-политических тенденций в России и Европе перед лицом общих вызовов, прежде всего роста культурного разнообразия и миграции.
Книга может представлять интерес как для ученых в области социальных наук и лиц, принимающих решения, так и для широкой публики.
Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во-вторых, принадлежность к нации, самоидентификация с ней не являются результатом исключительно внешнего принуждения. Разумеется, политическая составляющая нации, особенно в процессе национального строительства, несет в себе элемент насилия. Однако это насилие, как правило, является следствием того, что идея нации в любом обществе неизбежно натыкается на сопротивление сил социальной традиции, хотя формы и мера этого сопротивления на практике различаются. Так, во Франции, где идея гражданской нации была сформулирована еще в конце XVIII века, процесс национально-гражданской консолидации не был полностью завершен и к началу XX столетия. Юджин Вебер в своем историческом исследовании, ставшим классическим, показал, сколь длительным и трудным был процесс «превращения крестьян во французов» [22] Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, California: Stanford University Press, 1976.
. Крестьяне Франции долгое время осознавали себя частью локальных и региональных сообществ (Бретань, Нормандия, Прованс и др.), а вовсе не членами французской нации и гражданами Республики. В 1789 году более половины населения Франции вообще не владело литературным французским языком [23] См.: Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос. 2005. № 4 (49). С. 51.
. Еще более культурно раздробленной была упомянутая выше Италия. К моменту ее объединения в Итальянское королевство, завершившегося лишь в 1870 году (одновременно с объединением Германии) после присоединения к нему Рима, не более 2-3 % населения этой страны говорили дома на литературном итальянском языке, а остальные использовали различные диалекты, зачастую труднопонимаемые при общении представителей разных регионов Италии [24] См.: Хобсбаум Э. Все ли языки равны?
. Региональное, раздираемое социально-классовыми противоречиями самосознание итальянцев подавляло развитие единого гражданского сознания. Именно это имел в виду маркиз д’Адзельо.
В то же время государственные усилия по культивированию гражданско-национального сознания у населения никогда не привели бы к успеху и столь широкому (и продолжающемуся по сей день) распространению национализма в мире, если бы не существовало «самого обычного человеческого желания жить в привычном мире со знакомыми тебе людьми» [25] Walzer M. Book Review of “Nations and Nationalism Since 1780” by E. J. Hobsbawm.
. Бернард Як, опираясь на современные теории социальной психологии, опровергает тезис о национализме как проявлении иррационального коллективизма. Солидарность с национальным сообществом – это скорее проявление потребности людей в «социальной дружбе», а сама нация, как воображаемое сообщество, есть средоточие моральных отношений между индивидами [26] См.: Yack B. Nationalism and the Moral Psychology of Community. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
. Более того, в отличие от других видов сообществ нация представляет собой особое «межпоколенное сообщество (an intergenerational community), члены которого связаны друг с другом чувствами взаимной заботы (mutual concern) и лояльности тем, с кем они делят общее наследие культурных символов и нарративов» [27] Ibid. P. 4.
.
В-третьих, национализм не может быть сведен ко «всему плохому», что свойственно обществу и самой человеческой природе. Как отмечает Пьер-Андре Тагиефф, «негативизация» идеи нации и феномена национализма является следствием идеологических игр их противников с этими важнейшими понятиями: антинационалисты всех мастей создают амальгаму смыслов, в которой национализм выступает (в зависимости от ситуации и идеологических предпочтений) синонимом ксенофобии, этноцентризма, расизма, империализма и в конечном счете олицетворяет собой политическое насилие [28] См.: Taguieff P.-A. La revanche du nationalisme: Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe. Paris: Presses universitaires de France, 2015. P. 17, 20.
. «Национализм – это война!» – именно этой фразой, встреченной бурными аплодисментами, закончил свое выступление перед депутатами Европарламента французский президент Франсуа Миттеран в январе 1995 года [29] François Mitterrand: «Le nationalisme, c’est la guerre!» // Institut national de l’audiovisuel. 17.01.1995. (URL: http://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00129/le-nationalisme-c-est-la-guerre.html).
. Резко негативный образ национализма был положен в основу мифа основания Евросоюза (EU’s foundational myth), воспроизводимого в дискурсе его официальных представителей и структур. Согласно этому политическому мифу, «ЕС возник на пепелище [Второй мировой] войны для того, чтобы отвергнуть национализм как принцип, лежащий в основе системы власти (governing) и отношений между государствами», поскольку именно национализм к середине XX века «довел [Европейский] континент до состояния полного разорения» [30] Sala V. Della. Europe’s Odyssey?: Political Myth and the European Union // Nations and Nationalism. 2016. Vol. 22, N 3. P. 532.
. Понятно, что подобные смысловые амальгамы в какой-то мере «нормальны» для практической политики, поскольку они являются элементом идеологической борьбы. Не стоит забывать, что национализм – это категория не только социального анализа, но и политической практики. Однако задача исследователя как раз в том и состоит, чтобы разделять их между собой.
Уже само различение между «национализмом» и другими перечисленными выше понятиями, существующее в нашем языке, подсказывает, что речь идет о разных, хотя и в чем-то пересекающихся феноменах. В действительности национализм любого вида может эксплуатироваться государством, однако по преимуществу является категорией общества, а не государства. Этот социетальный подход к оценке национализма преобладает в современных академических кругах по сравнению с более узкой парадигмой, отождествляющей национализм с этатизмом, «державностью», господством над территориями и подчиненными народами. Для характеристики этатизма, как правило, используется другой термин – «шовинизм». В середине XIX века этот термин был заимствован из французского большинством европейских языков и трактовался в толковых словарях как «бурное патриотическое настроение воинственного характера» [31] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. (URL: http://www.vehi.net/brokgauz).
. Во всех случаях толкования речь шла о психологически форсированном подчеркивании превосходства своей страны (и следовательно, своей нации) над другими странами. Шовинизм нетождествен национализму, потому что отражает иной тип ценностей, а именно ценности этатизма, подчинения интересов личности и групп, включая этнические сообщества, государству, тогда как национализм базируется на ценностях социетальных, относящихся к обществу и идее социальной вовлеченности.
Наконец, в-четвертых, современный взгляд на национализм акцентирует внимание на его непосредственной связи с идеей народного суверенитета, то есть с основой модерного политического порядка. Политическая, гражданская составляющая нации не менее, а с усложнением структуры общества все более важна , нежели культурный, языковой и этнический ее компоненты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: