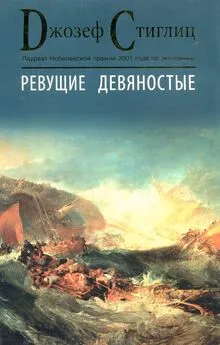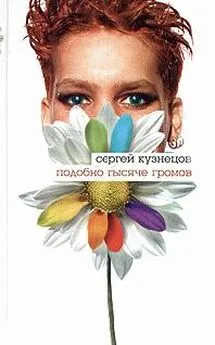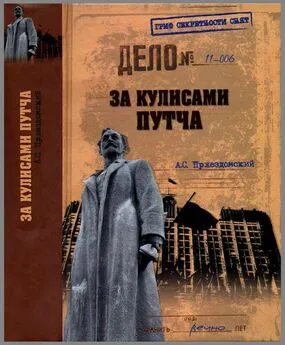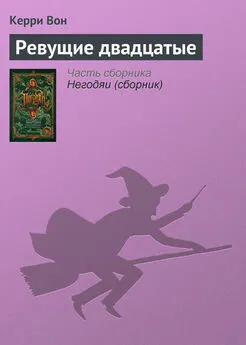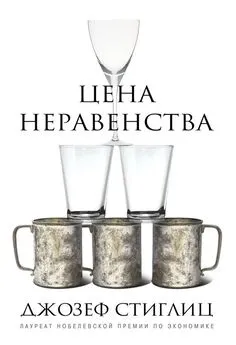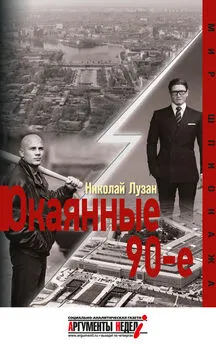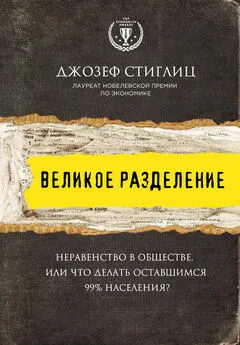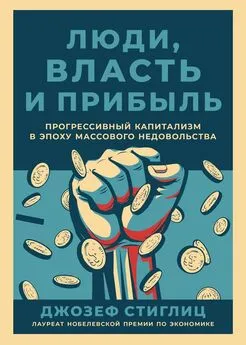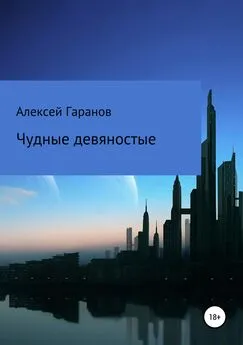Джозеф Стиглиц - Ревущие девяностые. Семена развала
- Название:Ревущие девяностые. Семена развала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современная экономика и право
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-8411-0179-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джозеф Стиглиц - Ревущие девяностые. Семена развала краткое содержание
В труде выдающегося американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике (2001 г.) Дж.Стиглица, являющемся непосредственным продолжением его предыдущей книги "Глобализация: тревожные тенденции", дается глубокий анализ развития экономики США XX - нач. XXI вв. Автор размышляет по поводу бурного развития "новой экономики", основанной на информационных технологиях, показывая ее сильные и слабые стороны. Стиглиц раскрывает причины перехода подъема 90-х годов в корпоративные скандалы и спад.
Параллельно он демонстрирует неадекватность в новых условиях политики, вытекающей из стандартной неоклассической экономической мысли, применяя к ней свою теорию информационной асимметрии. Последняя представляет значительный интерес для России с точки зрения анализа ошибок периода реформ и выработки ведения курса на будущее.
Ревущие девяностые. Семена развала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На достаточно быстрое восстановление корейской экономики ссылаются обе стороны, участвующие в споре, — каждая, доказывая, что именно она права. Но я полагаю, что это быстрое восстановление, что бы ни говорили, является следствием нескольких причин, и произошло вопреки программе МВФ, а не в ее результате. На самом деле эта программа, будучи введенной в действие, даже не остановила падения валютного курса. Если бы проблемы Кореи имели такие глубокие корни, как предполагалось в обвинениях, выдвинутых против нее МВФ, они никогда не могли бы быть решены в такие короткие сроки. Корейцы оказались достаточно благоразумными, чтобы самим решать, когда нужно, а когда не нужно делать то, что советует им МВФ. В Корее наблюдали за плачевным провалом стратегии реорганизации финансовых институтов, предложенной Индонезии МВФ. Там по предложению МВФ было закрыто шестнадцать банков и объявлено о других закрытиях (но названия банков не объявляли). Вкладчики должны были получить только очень небольшие страховые выплаты. Поэтому ни для кого не стал неожиданностью — кроме МВФ — «набег» вкладчиков на банковскую систему Индонезии, что превратило то, что могло бы быть серьезной рецессией в полномасштабную депрессию. Корея, напротив, фактически национализировала свою банковскую систему, поддерживая, по крайней мере, некоторое движение финансовых потоков. Корейцы также понимали, что спад их экономики происходит на основе нормального экономического цикла в спросе на чипы для компьютеров. Они отказались следовать рекомендациям МВФ ликвидировать в этом секторе избыточные производственные мощности. Соответственно, когда рынок чипов восстановился, они были готовы использовать это к своей выгоде, и это оказалось ключевым моментом для восстановления всей корейской экономики.
МВФ (а отсюда по умолчанию и министерство финансов США, которое было очень сильно вовлечено в формирование политики МВФ, особенно в этот период) в конечном счете признал, что стратегия реорганизации финансовых институтов Индонезии оказалась провальной, что масштаб спада был недооценен и что Фонд проталкивал фискальную политику, приведшую к избыточному свертыванию бюджетных расходов. Но этот урок им недостаточно запомнился: когда с кризисом столкнулась Аргентина, фискальные ограничения вновь были включены в повестку дня, и снова с предсказуемыми результатами — ростом безработицы, падением ВВП, и, в конечном счете, политическими и социальными беспорядками. Но что примечательно, так это долготерпение аргентинского народа и неспособность МВФ предсказать эти вспышки беспорядков.
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ КРИЗИС
Для Латинской Америки (а фактически для большей части развивающихся стран) аргентинский кризис был особенно поучителен, ибо Аргентина — любимое дитя того рода реформ, который МВФ и министерство финансов США (на совместной основе) навязывали развивающимся странам. (Поскольку эти реформы представляли «консенсус» разработчиков политики с 15-й стрит в Вашингтоне, где расположено министерства финансов США, и с 19-й стрит в Вашингтоне, где расположен МВФ — этот набор реформ получил название «Вашингтонского консенсуса» по проблемам реформ) {104} . Если это предусматривало то, что случилось со странами, которые последовали данной политике, то они сказали бы, что никогда своего согласия на такие реформы не давали.
СЕЯ СЕМЕНА РАЗРУШЕНИЯ
Выкупы имели не только сомнительную ценность с точки зрения борьбы с кризисом, можно обоснованно показать, что первые выкупы способствовали возникновению последовавших за ними проблем. Кредиторы, зная, что их кредиты будут выкуплены, стали менее осторожными, менее требовательными при подготовке кредитов. Заемщик, зная, что у них есть достаточная поддержка, не покупали страховки от валютного риска, они тоже считали, что их выкупят через МВФ. Поэтому они принимали на себя необоснованные риски {105} . Некоторые экономисты протягивают нить еще дальше: деньги, израсходованные на выкуп, питали спекулятивных акул. Спекуляция — пари на обрушение валюты — есть игра с нулевой суммой [102]. Спекулянты выигрывают за чей-либо счет. Иногда они делают ставку на другой исход, а именно, что обрушения валюты не будет. Но средний выигрыш выигравших равен среднему проигрышу проигравших, за вычетом транзакционных издержек, и таким образом спекуляция была бы заведомо проигрышным делом, если бы не одно обстоятельство: деньги, поступающие от МВФ и государственные средства, израсходованные в доблестной, но неэффективной попытке поддерживать валютный курс. Чем больше предоставляется для выкупов, тем более выгодным становится спекулятивный бизнес.
* * *
Все происходило точно так же, когда семена кризиса были посеяны в конце девяностых годов министерством финансов США. Сначала министерство финансов (и МВФ) проталкивали скорейшую либерализацию рынков капитала и финансовых рынков — открытие рынков этих стран для вторжения спекулятивных денег, приток которых может смениться отливом в течение одних суток, оставляя за собой в экономике опустошительный след. Проталкивалось ускоренное дерегулирование. Некоторые шутники говорили, что, испытав опустошительный результат дерегулирования банковского сектора с кульминацией в огромном выкупе долгов С&К, Соединенные Штаты не захотели быть эгоистичными и пожелали распространить свой опыт на все остальные страны. Но если Соединенные Штаты были достаточно богаты для того, чтобы вынести издержки такого мероприятия, другие страны были не в столь благоприятном положении. Либерализация рынка капитала является обоюдным мечом, но одно из его лезвий намного острее другого. Когда рынки настроены оптимистически, когда на них царит иллюзорное ощущение богатства, капиталы поступают в страну, и даже если только часть из них направляется на производительные инвестиции, темпы роста ускоряются. Но в предыдущих главах этой книги было уже показано, как в Соединенных Штатах за иллюзорным ощущением богатства последовал иррациональный пессимизм, так же это произошло и в других странах, только в гораздо более выраженной форме. И этот цикл время от времени повторяется. Но Соединенные Штаты справляются с этим чередованием фаз цикла достаточно успешно, а в развивающихся странах его последствия бывают намного более тяжелыми. В итоге эти страны при отливе капитала потеряли значительно больше, чем выиграли на его притоке.
В 1993 г. Совет экономических консультантов выступал против попытки министерства финансов вынудить Корею к ускоренной либерализации. Корея, в свою очередь, выдвинула план постепенной либерализации. Почти сотня финансовых кризисов, которыми была отмечена последняя четверть прошлого века, хотя и нанесла серьезнейший ущерб развивающимся странам, в то же время предоставила обширный материал, позволяющий выявить причины этих кризисов, среди которых главное место занимала ускоренная либерализация рынка капитала и финансового рынка. Зачем же нужно было подталкивать Корею к ускорению либерализации? Что выиграла бы Америка, если бы Корея либерализовалась на несколько лет раньше, чем она предлагала? Американские наемные работники не выиграли бы ничего, но фирмы с Уолл-стрита опасались, что постепенная либерализация могла привести на корейский рынок финансовые фирмы других стран или даже позволить корейским фирмам конкурировать на равных. В главе 4 мы уже видели, что дерегулирование в телекоммуникационном секторе привело к гонке — первый, кто утвердится на рынке, будет доминировать и получать монопольную прибыль (по крайней мере, в это верили участники гонки). Та же самая логика действовала и в случае с Кореей, многие американцы верили, что наши фирмы совершенно определенно будут победителями в этой гонке, если дать ей старт именно сейчас. Кто знает, как сложится ситуации через пять лет? К несчастью, как это обычно случается, при обсуждении ситуации, в центре которой находятся финансовые рынки, точка зрения министерства финансов одержала верх. Корею толкнули на ускоренное открытие ее финансовых рынков. Через четыре года тревоги Совета, к сожалению, реализовались. Министерство финансов США выиграло в споре, но Корея проиграла, и в ходе последовавшего финансового кризиса вместе с ней проиграл весь остальной мир.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: