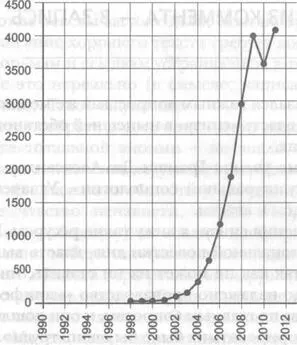Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования
- Название:Мысли быстрого реагирования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Научный эксперт
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание
Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.
Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.
Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.
Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.
Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».
Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поскольку я пришел из другой сферы, это мне казалось ненормальным. Чужаки как будто обладали какой-то силой и понимали друг друга, а те, кто по всем признакам были моими товарищами, как будто чем-то связаны, заторможенные. И не было заметно, чтобы за этим стояли какие-то политические факторы. Взрослые из моего детства были того же поля ягодами, но другими, по очень многим параметрам. Но они старели и были все менее видны.
Сейчас, когда я читаю социологическую литературу, мне кажется самым правдоподобным для определения разных групп термин «культурный тип». Чужаки были людьми иного культурного типа и были как-то связаны, а я и мои товарищи постепенно становились разобщенными и слабыми.
Все это обнаружилось воочию сразу в 1985 г. Чужаки быстро поднялись наверх, хотя нередки были и между ними распри. Притча Кафки как будто ожила.
Что сильно удручает? То, что все эти явления хорошо описаны в научной литературе — пока что западной, но и к нам они проникают, а интереса не вызывают. Большинство вокруг, в общем, думают и переживают примерно одинаково. Они должны были бы быть «товарищами», поддерживать друг друга словом и делом, хотя бы обсуждать совместно нашу жизнь. Но нет общего языка для обсуждения трудных, неизученных проблем. И разговор скатывается в колею, в которую нас загоняет телевидение.
И со временем положение не улучшается, а наоборот. Люди как будто какими-то магнитами слепляются в маленькие группы, которые начинают вяло спорить друг с другом по второстепенным вопросам. А если кто-то поставит явно важный, но неразработанный вопрос, от него стараются отойти в сторону. И это очень ловко удается.
И начинаешь думать: не получится ли так, что понемногу, без страсти и сильных чувств, наша культура иссякнет и так обветшает, что и слово «товарищ» будет забыто. Будут вокруг тебя одни «чужаки» — наверху сильные и хищные, а ниже — вполне приемлемые в быту.
3.07.2014
Сейчас, как и в годы перестройки, раскручивается кампания против детских домов — остаток «проклятого прошлого». Эта кампания пугает, как спектакль абсурда. Ведь реформа стала генератором «социальных сирот». Разумно ли сейчас затевать эту атаку — не конструктивную критику, а удар на поражение? Треть детей рождается в «неполных семьях» — вне брака. Очень много людей, не имеющих постоянного источника дохода, находятся в местах заключения, многие пьют. Во многих бедствующих семьях царит бытовое насилие. Масса детей и подростков убегали из дома. Теперь органы опеки стараются устроить их в детские дома — место печальное, но там ребенок выживает и получает сносное образование. Пока что это место — меньшее зло для ребенка.
В нашем Центре идет работа над проектом, посвященным изучению проблем современных детских домов и анализу направления их реформирования. Пока мы в коллективе обсуждаем эти темы, хочу написать о тяжелых воспоминаниях, которые вызвала эта новая кампания против детдомов.
Я вспомнил, как девушки с нашего курса (1957-1958 гг.) ездили в детский дом в Хотьково — подружились там, и уже было трудно оторваться. Вспомнил я их, когда в начале перестройки стали на телевидении громить детские дома. У журналистов было идеологическое задание — надо было опорочить порождение тоталитарного советского государства. Не буду спорить об этом мотиве. Но сколько при этом выплеснули тупой бесчувственности и безжалостности к детям! Эти передачи сразу отвратили меня от Горбачева, сильно подействовали.
6 апреля 1989 г. Главная редакция пропаганды Центрального телевидения выпустила на экран новую художественно-публицистическую программу «Ступени». В первой передаче был сюжет о московском специнтернате № 81 — лечебном учебно-воспитательном учреждении для детей-олигофренов. Изюминка была в том, что директором интерната 12 лет была К.Б. Корнеенкова, которая оказалась сталинисткой и даже имела дома портретик Сталина. Репортер брал у нее дома интервью, очень ласково, так что она и не подозревала, каков весь сценарий передачи. К.Б. Корнеенкова была явно польщена тем интересом, который пробудила ее приверженность Сталину у элегантного молодого человека с телевидения.
А весь спектакль должен был показать, что и директор, и не восставшие против нее педагоги — изверги, а интернат — учреждение для «откровенного угнетения детей» и издевательств над ними. Интервью с директоршей монтируется с сюжетом, в котором у одного воспитанника и трех бывших сотрудников интерната (порознь) вытягивают расплывчатые сведения о безобразиях в интернате. Раз просят — люди поддакивают.
Чередующиеся кадры создают эффект, так что зритель (тогда очень доверчивый) верит: политические убеждения директора, входя в резонанс с порочной системой детского дома, неизбежно превращают это место в застенок. Вот он, звериный оскал детского дома конца 1980-х гг.! Так лепят этот образ.
Я уже к тому моменту убедился, что любимым объектом телевидения в то время были прячущиеся по закоулкам сталинисты-старики, да и то не всякие. Журналисты, как и в далеком прошлом, «имели похвальное обыкновение налегать на таких, которые не кусаются» (Гоголь).
Но меня слишком возмутил этот фарс, нарушающий элементарные права людей, у которых берут «интервью», и моральный ущерб, нанесенный сотрудникам и воспитанникам интерната. Даже на пятом году перестройки трудно было терпеть такой цинизм. Ведь по существу заготовленных обвинений никакого разбирательства не было, и люди, попавшие в ловушку, даже и предполагать не могли, что потом будет состряпано. Добрые тети и дяди с телевидения заставляли детей перед телекамерами говорить гадости о своих воспитателях и учителях. Допустимо ли это юридически — не знаю. Но каково детям после этого было жить с их воспитателями и нянечками, когда журналисты убрались в свой телецентр?
Я и вспомнил детский дом в Хотьково, в котором тоже бывал. И мне стало тяжело, что и я там про себя возмущался грубыми нянечками, орущими на детей и дающими им подзатыльники. Ведь и тогда было видно, что эти грубые нянечки и есть самая милосердная часть нашего общества. Ибо они шли работать с этими несчастными детьми за плату, совершенно не соответствующую тяжести труда. Предположим, после передачи уволят сотрудников интерната, или посредством обличений доведут их до ухода по «собственному желанию» — заполнятся ли вакансии культурными и гуманными людьми? Ясно, что нет. И это понимают сами дети.
Насколько же мудрее были наши девочки из МГУ, которые ездили в детдом, — а ведь всего-то студентки первого и второго курсов. Я иногда ездил с ними, и тогда меня удивили это их чутье и такт. Дети им радовались, липли к ним — ведь всегда хочется кому-то пожаловаться, снять груз с души. Им и жаловались: «Меня тетя Настя мокрой тряпкой стукнула…» И все в таком роде. Наши девочки все выслушают, поохают, по голове погладят — и успокоят. Мол, ничего страшного, бывает. Главное, тетя Глаша и тетя Настя вас любят. И дети рады — они ведь понимают, что никого у них нет, кроме тети Глаши и тети Насти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: