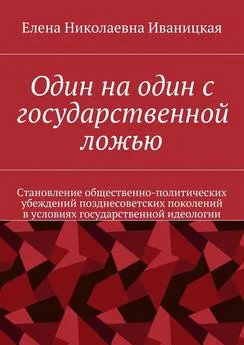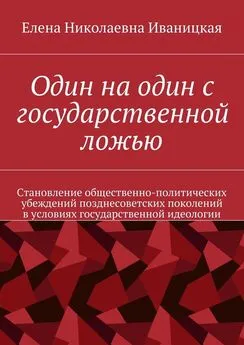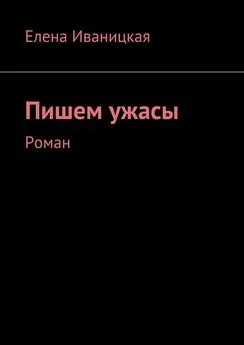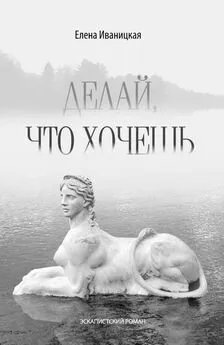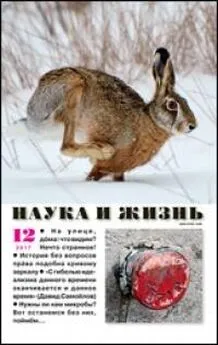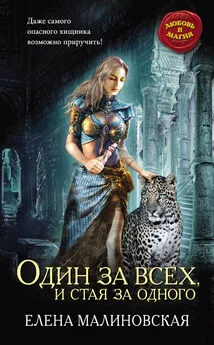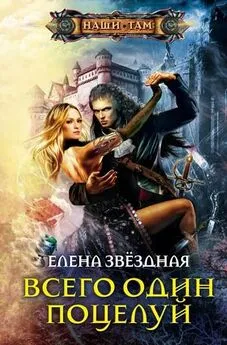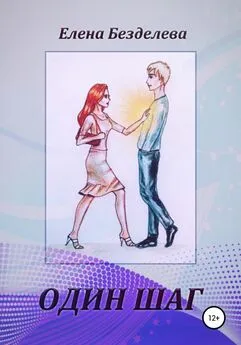Елена Иваницкая - Один на один с государственной ложью
- Название:Один на один с государственной ложью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентРидеро78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:2016
- ISBN:9785448355875
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Иваницкая - Один на один с государственной ложью краткое содержание
Каким образом у детей позднесоветских поколений появлялось понимание, в каком мире они живут? Реальный мир и пропагандистское «инобытие» – как они соотносились в сознании ребенка? Как родители внушали детям, что говорить и думать опасно, что «от нас ничего не зависит»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания, но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.
Один на один с государственной ложью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что ж, вполне возможно, что именно так и было. Тем очевиднее, что семейное коммунистическое воспитание, как и общественное , потерпело полное крушение в тех двух областях – пола и политики, куда были брошены главные силы. Вероятно, пол, как и политика, считался сферой сакрального . Во всяком случае, воспитательные средства были одинаковыми: жесткое ограничение знаний вплоть до табуирования, внушение страха и тревоги, стыда и неуверенности, острого чувства вины и опасности – абсолютное «нельзя». Вместе с тем – пафосная идеализация. Даже серьезные энциклопедические издания сюсюкали вслед за основоположниками , когда дело касалось любви или наших политических целей. «Сложится единое коммунистическое общество в масштабе всей планеты», «источники общественного богатства польются полным потоком», «любовь играет огромную воспитательную роль, способствует осознанию личностью самой себя, развитию ее духовного мира» и т. д. (Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 268, 329).
Когда строжайший надзор за мной после этого семейного потрясения несколько ослабился, ситуация повторилась. Только теперь это был другой круг: там были люди немолодые, возраста моих родителей. Их и с работы выгоняли, и в газетах травили. Они были под угрозой ареста. Эту историю, в буквальном смысле подпольную, я описала в мемуарном очерке, посвященном памяти Леонида Григорьевича Григорьяна (1929—2010), поэта, переводчика, диссидента, отца моей дочери (Нева, 2012, №9. https://goo.gl/49IhZi). Думаю, что рождение у меня внебрачного ребенка сыграло свою роль в снятии моего отца с номенклатурной должности.
Мои родители были людьми выдающихся дарований и большой души. Справедливыми и честными. Они широко мыслили и хотели общественного блага. Коммунистическая ситуация «социальной шизофрении» несомненно их мучила. В том числе разладом со мной. Самые родные люди не доверяли друг другу, скрывали друг от друга свои мысли и плохо друг друга знали. Жутко подумать, какого отец был мнения обо мне, если ожидал от меня претензий и презрения, когда его выгнали из номенклатуры, и не ожидал любви и поддержки.
Внушения советского воспитания, сцепленные с чувствами вины и страха, были болезненными и разрушительными. Самым непреодолимым для меня было (и осталось) сознание бесправия и беззакония. Уверена, что не только для меня. Доказательством служит молчаливое, обреченное принятие населением любых действий власти, в том числе той практики, которая получила название «басманного правосудия». Конечно, в наше время открыто протестуют гораздо больше людей, чем протестовали в советское. Но все равно это лишь узкий круг активных граждан. Протестую и я, но знаю, что установка большинства осталась советской: « от нас ничего не зависит, не высовывайся, хуже будет ». В этом я убеждалась не раз, когда во время избирательных кампаний агитировала москвичей подписаться за право оппозиционной демократической партии участвовать в выборах. Объясняла и повторяла: ваша подпись – не призыв голосовать именно за эту партию, а лишь согласие на то, чтобы партия имела право баллотироваться. «Вы согласны?» Абсолютно все были согласны. Откликались с готовностью, высказывали критические замечания о власти и ее пропаганде. Вплоть до того мгновенья, пока не обнаруживали, что в подписном листе надо указать адрес и паспортные данные. Тут большинство морально пятилось. Примерно восемь из десяти. Те самые 86%, которые и сегодня, по моему убеждению, вовсе не поддерживают власть, не одурманены пропагандой, а всё понимают, но морально пятятся, потому что боятся. Отказывались всегда одинаково. Я записывала реплики.
«Нет, если без паспорта, то подпишусь, а с паспортом – не надо»
«Нет, я, конечно, не против, но подписываться не буду. Партия оппозиционная, а мне тут жить»
«Не то что я боюсь, не подумайте. Но буду чувствовать себя очень неуютно. Ведь понятно, какая партия победит, а получится, что я поддерживаю другую»
«Нет, нет, как же я подпишусь? Ведь я работаю в бюджетной организации. А если директору сообщат?»
«Нет, зачем я стану подставляться и привлекать к себе лишнее внимание? Совершенно мне это не нужно»
«От нас ничего не зависит, без нас давно все решили. А подписаться – все равно что проявить строптивость»
«Они сели нам на шею и не слезут. От нас ничего не зависит. От меня ничего не зависит»
«Нет, я боюсь. Ну как чего? Вы что, сами не понимаете? А вы разве не боитесь? Напрасно…»
Полностью подтверждается вывод Бориса Дубина, который писал, что «базовая тактика населения – быть невидимым для власти. Кто служил в армии, знает: начальству попадаться на глаза не надо. Ускользание от глаз начальства, постоянная невидимость („нас здесь и сейчас нет“) – это очень важная установка и населения, и „элитных“ групп, ведь они тоже подначальные» (Борис Дубин. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М., 2011. с. 378).
Быть незаметной и неуловимой – это требование бабушка мне внушила раз и навсегда с помощью сильнодействующего средства. Дело было так. В одиннадцать лет я начала вести дневник. Он показал мне скуку и бессодержательность моего существования. Не имея никаких ресурсов добавить содержания в жизнь, я принялась добавлять его в блокнот – наивно рассуждать о «важном». Помню, что писала о бесконечности, о событиях в Китае, о международном положении (оно меня очень тревожило), что-то и о внутренней политике, хотя уверена, что ни Ленина, ни Брежнева не упоминала. А еще, представьте себе, о радостях материнства. Блокнот я не прятала, усвоив благоглупость, будто личные дневники и письма читать нельзя. На самом деле понимать следовало так, что мне – нельзя, а мои – можно. Бабушка прочла и долго, панически меня «ругала». Она кричала: «Признавайся во всем!». В чем? – я не понимала, но струсила до лязга зубов. Она кричала: «Если узнают мама с папой, даже подумать страшно, что будет!» (помню дословно). Она грозила при первом же моем ослушании все рассказать родителям, и тогда меня «отправят в интернат» или «еще хуже».
В рамках прекраснодушной «педагогики гуманизма» случай вопиющий. Но для понимания советской реальности – необходимый урок. По своей воле рассуждая о сакральном , я нарушала технику безопасности во взаимодействии с миром, в котором мы живем .
Исписанные странички я сожгла в железной раковине и пепел смыла. Теперь очень жалко. Живой детский документ, записи с января по ноябрь. Но я символически продемонстрировала, что урок усвоен: думать опасно, записать еще опаснее, дневник – улика, личной тайны не существует. Берегись, молчи, всю семью подведешь!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: