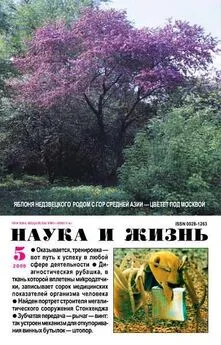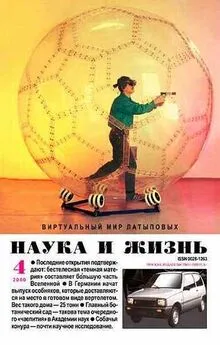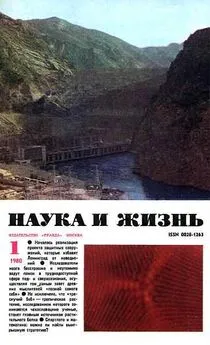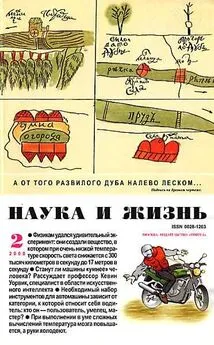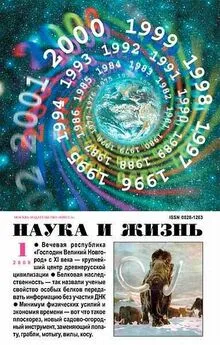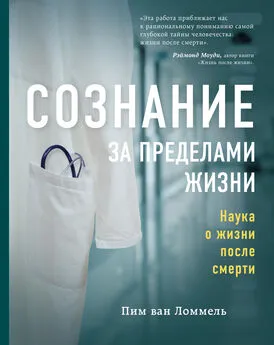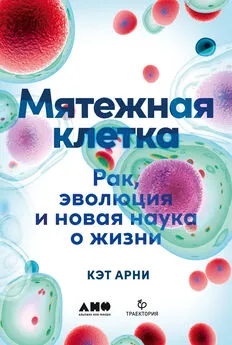Наука и жизнь, 1999 № 01
- Название:Наука и жизнь, 1999 № 01
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наука и жизнь, 1999 № 01 краткое содержание
Наука и жизнь, 1999 № 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После нажатия кнопки «Пуск» ракета полностью переходила «во власть» циклограммы. На языке специалистов – это последовательность выдаваемых системой управления функциональных команд, по которым в автоматическом режиме приборы наземного оборудования и борта ракеты при старте и в полете выполняют технологические операции.
По пусковой циклограмме от наземных агрегатов идет наддув топливных баков и их контроль, запускается и выходит на режим рулевой двигатель, а затем и маршевый двигатель первой ступени. В момент отрыва ракеты от стартового стола происходит разрыв штепсельных разъемов, которые соединяют ее с наземным электрооборудованием. О том, что старт состоялся, «оповещает» контакт подъема (он замыкается в момент отрыва ракеты от стартового стола), и с этого момента все, что происходит с ракетой в полете, подчинено полетной циклограмме. Система управления стабилизирует ракету относительно ее центра масс, выводит на заданный угол по тангажу (отклонение продольной оси ракеты от горизонта), регулирует скорость и дальность полета, выдает на исполнительные органы (пиропатроны и электропневмоклапаны) двигательных установок последовательные команды на их включение или выключение. Каждая из этих команд жестко привязана по времени к началу отсчета – моменту замыкания контакта подъема. Сигналы на выполнение команд выдаются программными токораспределителями первой и второй ступеней.
Пневмогидравлическая система (ПГС) связывает топливные баки с двигательными установками. Она отвечает за запуск рулевых и маршевых двигателей, их работу и выключение в полете по командам системы управления.
Маршевый двигатель первой ступени ракеты Р-16 состоял из трех автономных блоков (по две камеры в каждом), связанных единой системой запуска. В нее входили пиростартер, пусковые бачки окислителя и горючего и система узлов автоматики. На второй ступени маршевый двигатель включал один блок из двух камер и систему запуска.
Из топливных баков к двигателям шли раздельные магистрали горючего и окислителя. В них были установлены турбонасосные агрегаты, они подавали компоненты топлива в двигатели под определенным давлением. Ракетное топливо представляло собой два токсичных компонента: горючее – несимметричный диметилгидразин, окислитель – азотный тетраксид (при соединении они самовоспламенялись). Чтобы надежно герметизировать топливные баки и трубопроводы и предотвратить попадание агрессивных компонентов в полости насосов двигателей, при входе в насосные агрегаты в трубопроводах устанавливались специальные разделительные устройства – пиромембраны.
После команды на прорыв пиромембран они раскрывались и складывались, открывая путь компонентам топлива. Горючее и окислитель, каждое по своей магистрали, устремлялись вниз, заполняя полости насосов. Но на выходе из насосных агрегатов перед компонентами топлива стояла еще одна преграда – главные разделительные клапаны, они перекрывали вход в камеры сгорания. Клапаны открывались только тогда, когда давление на входе в них достигало определенной величины.
Сам же процесс запуска маршевого двигателя (при прорванных пиромембранах) происходил следующим образом. От программного токораспределителя поступала команда на запуск пиростартера, образовавшиеся в нем выхлопные газы попадали на лопатки турбины, и она начинала вращаться. Одновре
менно включался электропневмоклапан, открывавший доступ газа из системы высокого давления в пусковые бачки. В результате компоненты топлива вытеснялись в газогенератор, там они самовоспламенялись, и образовавшийся при сгорании газ поступал на лопатки турбины. На одном валу с ней были установлены насосы магистралей окислителя и горючего. Турбина начинала раскручиваться, и давление в полостях за насосами постепенно повышалось. Когда оно достигало определенной величины, открывались главные клапаны, компоненты топлива устремлялись в камеры сгорания и воспламенялись. Происходил запуск двигателя и выход на режим.
И еще один момент, важный для понимания возникшей ситуации. Для выключения двигателя перед входом в газогенератор устанавливались отсечные пироклапаны. При поступлении команды на выключение они срабатывали и перекрывали подачу топлива в газогенератор. Обесточенный турбонасосный агрегат останавливался, и двигатель выключался.
С помощью специального прибора мы стали прозванивать цепи и обнаружили, что цепь одного взрывателя цела, а другого – в обрыве. Чтобы проверить надежность стыковки разъема, Мануйленко в третий раз пролез к нему и убедился, что разъем состыкован нормально. По шлемофонной связи я доложил В. А. Концевому, что цепь одного из двух взрывателей пиропатрона пиростартера в обрыве.
Мануйленко остался на верхней площадке обслуживания (меньше чем через час он погиб),а мне поступила команда спускаться вниз. Я подошел к М. К. Янгелю. Он стоял в двух-трех метрах от ракеты, с ним были Л. А. Гришин, Л. А. Берлин, В. А. Концевой, Р. М. Григорьянц, В. В. Орлинский, Е. И. Апя-Брудзинский и еще кто-то.
Янгель спросил: «В чем причина обрыва цепи, как ты думаешь?» Я ответил, что цепь оборвана в разъеме и что это могло произойти в процессе его отстыковки и повторной пристыковки, так как доступ к пиростартеру очень неудобен.
– Можно восстановить цепь? – спросил Берлин.
– Можно, – ответил я. – Для этого нужны торцовый ключ, чтобы вскрыть разъем, и паяльник.
– А в каком состоянии сейчас этот разъем?
– Он подключен к пиропатрону пиростартера, который сработает и от одного взрывателя, если, конечно, его цепь под воздействием вибраций в полете не нарушится.
Подумав немного, Михаил Кузьмич сказал:
– Восстанавливать цепь не будем. Задача первого пуска будет выполнена при успешной работе и одной первой ступени.
После этих слов Янгель обернулся ко мне и сказал в несколько несвойственной для него манере:
– А тебе здесь больше делать нечего. Иди в бункер и помоги Матренину.
Я вошел в «банкобус» и по шлемофонной связи сообщил А. С. Матренину о принятом Главным конструктором решении, сказал, что можно начинать набор схемы на пуск и что я иду к нему. Помню, прошел мимо сидевшего в одиночестве маршала М. И. Неделина. В трех-пяти метрах от него стояли начальник полигона К. В. Герчик и другие офицеры. На полпути к бункеру я встретил Г. Ф. Фирсова, рассказал ему о последних событиях на старте, и мы разошлись, он – к пусковому столу, я – в бункер. Там я застал всегда спокойного Матренина возбужденным. Он сказал, что на него сильно «давит» Григорьянц и все торопит. Мы пошли в курилку, и я стал его успокаивать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: