Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем
- Название:Пламя над Персеполем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука, Главная редакция восточной литературы
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем краткое содержание
Автор книги, известный английский археолог, в живой и непринужденной форме рассказывает о последствиях похода Александра Македонского на Восток — переменах в ходе развития культуры и искусства.
Пламя над Персеполем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, буддийское искусство, не менее чем христианское, выражало суетные притязания бесчисленных жертвователей. Это по их заказу фабриковались мириады будд и бодисатв, многократно повторялись сцены из джатак или из жизни Учителя. И чем их становилось больше, этих изделий, тем большей гордостью преисполнялись сердца благочестивых заказчиков, тем крепче была уверенность, что обожествленный Философ обратит наконец внимание на их земные нужды. Обилию и однообразию этих копий способствовала дешевизна материала крашеного штука. Впоследствии некоторые религиозные центры (например, монастыри вокруг Таксилы) штамповали их в количестве, которое можно сравнить только с машинным производством. Поистине дух св. Сульпиция проник в Гандхару и Пенджаб и оттуда распространился по всей Восточной Азии. Европейцу полезно помнить, что непрочный, податливый в обработке штук был подарком Запада. Штуковые статуэтки доставляли сюда по старым торговым путям из Александрии Египетской, где естественные запасы сырья для этого материала в какой-то мере оправдывали его широкое применение.
Заканчивая обзор искусства Гандхары, отметим основные условия его возникновения и развития. Первое среди них — примат буддизма, давно здесь установленного и к этому времени озабоченного созданием собственной культовой иконографии. Второе — выгодное положение Гандхары между греко-бактрийскими городами на севере с их скульптурой и архитектурой и древними центрами индийского художественного ремесла на юге. Третье — отсутствие сложившейся и достаточно развитой эстетической системы. И четвертое условие — появление в конце I в. н. э. могущественных завоевателей, чей кругозор не был, по-видимому, ограничен узкими племенными интересами. Это позволило им понять религиозные (а значит, и политические) нужды обширной пограничной области, расположенной на главных путях мировой торговли и во многом определявшей рост и безопасность новой Кушанской империи. Много веков спустя другая империя безуспешно пыталась закрепить за собою этот пограничный район, возводя форты и размещая в них солдат-оккупантов. Канишка и его кушаны строили здесь монастыри с гарнизонами из тысяч местных буддийских монахов и добились полного успеха.
Я думаю, сказанного довольно, чтобы составить общее представление о гандхарском искусстве. Многочисленные и глубокие корни удерживают его в родной почве, многие чужеземные мастера поработали над ним. В границах своего понимания мира искусство это достигло совершенства. Оно было искусством и для широких слоев населения, и для искушенных ценителей одновременно. А в тех редких случаях, когда оно выходило за пределы своей специальной функции, в его произведения проникали греко-римские черты, отражающие мирской характер греческого мышления.
Остается сказать несколько слов об эволюции взглядов на происхождение и состав искусства Гандхары. В недалеком прошлом оно представлялось простым сочетанием классических, греческих, и восточных элементов, приспособленных к идеологии гандхарского буддизма. Так было принято название — «греко-буддийское искусство». Считали, что греческая его половина заимствована непосредственно из провинции, основанной Александром в Бактрии и ставшей впоследствии царством. В 1899 г. Винсент Смит заявил, что по особенностям стиля, да и по времени, этот западный элемент соотносится более с классическим Римом, нежели с Грецией, и предложил называть гандхарское искусство римско-буддийским. Он только не объяснил, как очутился Рим в Гандхаре.
Около 1905 г. А. Фуше, чей вклад в изучение гандхарского искусства весьма основателен, пришел к выводу, что прямая связь между Бактрией и Гандхарой не может быть установлена. По его замечанию (для того времени справедливому), Греко-Бактрия оставила нам великолепные эллинистические монеты, но ни одного памятника архитектуры, скульптуры или живописи. Около 130 г. до н. э., как писал Фуше, кочевники уничтожили греческую Бактрию, и если греко-бактрийская школа существовала когда-нибудь, то теперь уже во всяком случае перешла в разряд мифов. Бактрийские греки бежали через Гиндукуш в Гандхару и далее, но тамошние буддисты не были еще многочисленны и сильны настолько, чтобы пытаться создать новую буддийскую цивилизацию. Они создали ее лишь в конце II в. н. э., и только тогда в Гандхаре появилось собственное гандхарское искусство. Это произошло через три столетия после гибели Греко-Бактрии и через два после того, как индо-греческих царей в Гандхаре сменили новые правители (кушаны), которых не интересовали ни греческая культура, ни буддизм. Что касается индо-греческого искусства Гандхары, то оно вряд ли пережило индо-греческие режимы, то есть восьмидесятые годы до н. э.
Эти несколько путаные и даже противоречивые выводы были поводом полувековых раздумий ученого, склонного к теоретизированию и располагавшего скудным фактическим материалом. Несколько лет назад, желая сопоставить его теории с действительностью, я отважился подтвердить догадку Винсента Смита о связях между искусствами Гандхары и Рима, использовав для этого замечательные находки римских вещей I и II вв. н. э. в Беграме и других местах. Казалось бы, восточно-западные связи в период становления гандхарского искусства неоспоримы; археология, действительно, документирует торговлю Востока и Запада времен Римской империи. Но это далеко не исчерпывало всей гандхарской проблемы.
И вот в 1960 г. Даниэль Шлюмберже опубликовал в журнале «Сирия» две очень интересные статьи. Он утверждал, что высокоразвитое греко-бактрийское искусство, в прямом родстве с которым находится искусство Гандхары, не следует считать мифом потому только, что образцы его пока не обнаружены. И он оказался прав. Утверждение это он обосновал данными своих раскопок в Сурх-Котале. Там, в архитектуре кушанского храмового комплекса, были выявлены классические и персидские элементы, но не индийские, как можно было предполагать. Таким образом, его раскопки продемонстрировали своего рода «художественный багаж» кушан, с которым они продвигались на юго-восток после длительного пребывания на иранских и других, более северных, территориях, где могли познакомиться, пусть бегло, с культурой греческих городов Бактрии, к тому времени пришедших, вероятно, в упадок, может быть даже мертвых и заброшенных. Теперь и Ай-Ханум готов, кажется, подтвердить это предположение. Теперь, то есть с 1965 г., можно не сомневаться, что кушанские всадники проезжали по этим эллинистическим улицам мимо пыльных коринфских колоннад, мимо статуи, еще не покинувших свое архитектурное окружение. Маловероятно, что Ай-Ханум и ему подобные города внезапно погибли в 130 г. до н. э. Но и в таком случае кое-что от былого великолепия должно было сохраниться и привлечь внимание смышленых кушанских кочевников, даже если они всего лишь ставили свои шатры среди величественных руин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
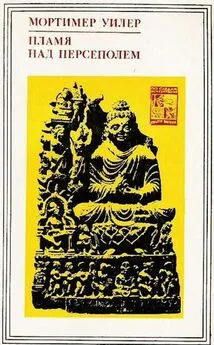

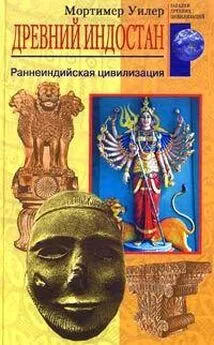
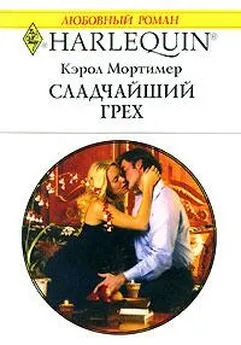
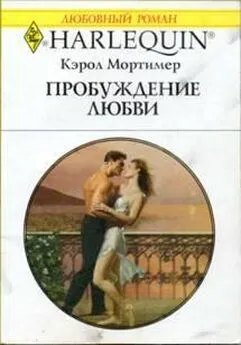
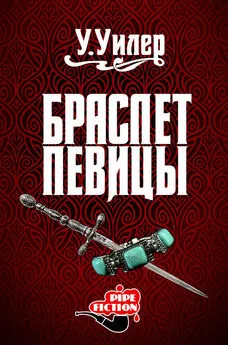
![Картер Браун - Том 19. Ночь лейтенанта Уилера [ Разящая наповал Долорес. Леди доступна. Ночь лейтенанта Уилера. Ловкач, Уилер!]](/books/566504/karter-braun-tom-19-noch-lejtenanta-uilera-razya.webp)
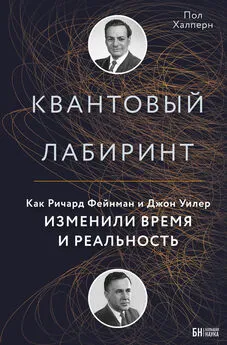
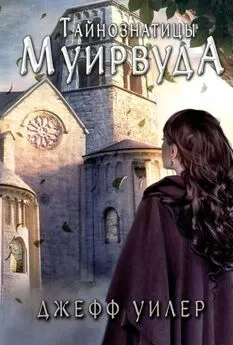
![Томас Уилер - Проклятая [litres]](/books/1075765/tomas-uiler-proklyataya-litres.webp)
![Джефф Уилер - Королевская отравительница [litres]](/books/1144366/dzheff-uiler-korolevskaya-otravitelnica-litres.webp)