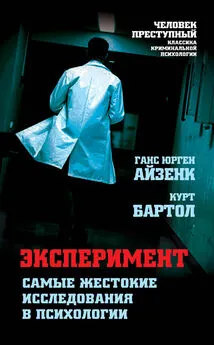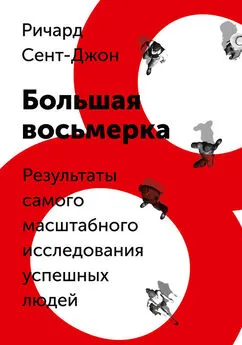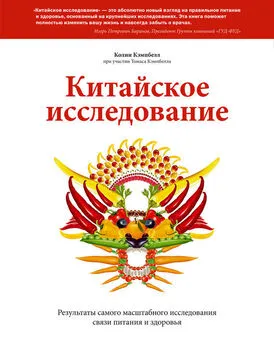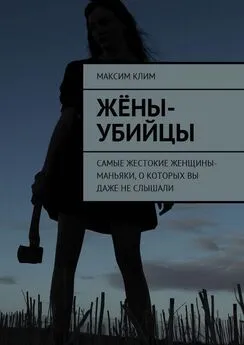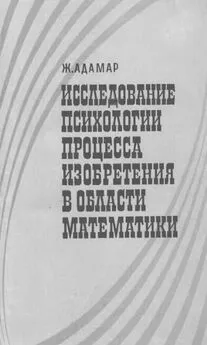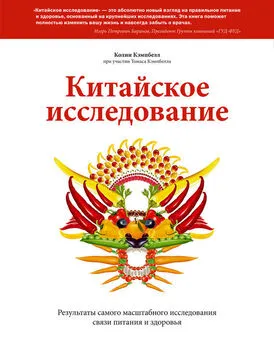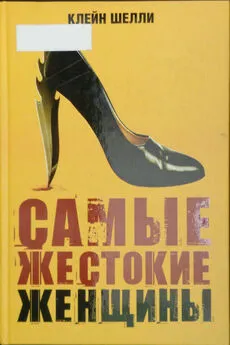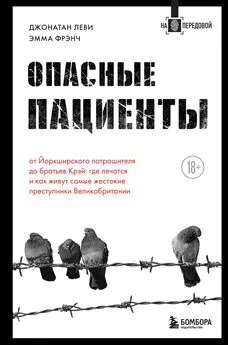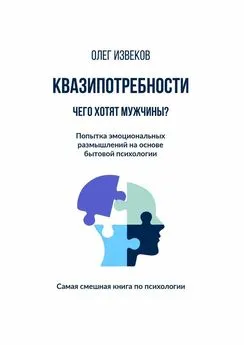Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии
- Название:Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907363-10-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии краткое содержание
К. Бартол — профессор психологии, бихевиорист, профайлер, автор самого популярного в мире учебника по криминальной психологии.
Как люди на полном серьезе стали поддерживать идею геноцида евреев в середине XX века? Это были совсем другие люди? Мы ведь не такие, правда? Мы точно лучше.
Так обычно думают люди, изучая историю Второй мировой войны, но знаменитые эксперименты 1960–1980-х годов говорят обратное.
Студентов разделяют на две группы, охранников и заключенных, и предлагают поиграть в тюрьму. Через несколько дней эксперимент приходиться завершить досрочно из-за случаев неоправданной жестокости.
Добрейшим религиозным домохозяйкам предлагают бить человека током за ошибочные ответы, и почти 100 % испытуемых доводят разряды тока до смертельных значений.
Священникам предлагают прочитать лекцию о том, как важно творить добро и помогать людям, но видя по дороге в аудиторию умирающего человека, почти 100 % лекторов безразлично проходят мимо нуждающегося в помощи.
Мир полон двуличных и лживых людей? Каждый человек в душе преступник? Или же каждого можно просто вынудить, спровоцировать на нужное, порой преступное поведение? Что лежит в основе психологии преступника и любой ли человек способен на убийство? На этот вопрос отвечают ведущие психологи-бихевиористы XX века.
Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Количество детей, ежегодно подвергающихся домашнему насилию в США, точно неизвестно. Страус (Straus, 1991, р. 98) подсчитал, что «по крайней мере каждый третий американец становился свидетелем насилия между родителями, а большинству приходилось видеть его неоднократно». Этот подсчет основывается на общенациональном исследовании Страуса и Геллеса (Straus and Gelles, 1990), в котором обнаружилось, что 30 % родителей, признавшихся, что в их доме бывали случаи насилия, сообщили, что их дети стали свидетелями как минимум одного такого инцидента в течение их брака.
Исследования также обнаружили, что от 13 до 27 % взрослых в детстве были свидетелями физического насилия между родителями (Forrstrom-Cohen and Rosenbaum, 1985). Данные полицейской статистики пяти крупных американских городов свидетельствуют, что дети оказывались непосредственно вовлеченными в инциденты домашнего насилия в 27 % случаев (Fantuzzo et al., 1997). Фантуццо и его коллеги обнаружили также, что чаще вовлекаются в домашнее насилие младшие дети в семье. В другом исследовании (Silvern et al., 1995) выяснилось, что проявление домашнего насилия может быть даже более распространенным среди некоторых групп населения. Как показал Силверн, 118 (41,1 %) из 287 опрошенных студенток колледжей и 85 (32,2 %) из 263 студентов колледжей были свидетелями случаев насилия одного из своих родителей по отношению к другому.
Объяснение того, как насилие воздействует на ребенка, должно включать ряд уже существующих факторов риска. Возраст ребенка, характер насилия и степень его жестокости, социально-экономическое положение семьи, особенности участия родителей в насилии — все это должно приниматься в расчет.
Больше всего внимания исследователи уделяли поведенческим и эмоциональным функциям ребенка. Прежде всего в этих работах сообщается о том, что у ребенка, вовлеченного в домашнее насилие, больше по сравнению с другими детьми поведенческих и эмоциональных проблем. Например, исследования, применяющие тесты детского поведения (Child Behavior Checklist) (Achenback and Edelbrock, 1983), и соответствующие измерительные шкалы, обнаружили, что дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, становятся более агрессивными и антисоциальными, боязливыми и подавленными (Fantuzzo et ah, 1991; Hughes, 1988; Hughes, Parkinson and Vargo, 1989), такие лети по сравнению с другими детьми проявляют меньше социальной компетенции и межличностных навыков общения (Adamson and Thompson, 1998; Hughes, 1988; Fantuzzo et ah, 1991). Более агрессивное и антисоциальное поведение часто определяют как «экстернальное» (externalized внешнее, направленное вовне), а боязливое и подавленное как «интернальное» (internalized внутреннее, направленное внутрь) (Carlson, 1991; Edleson, 1999; Stagg, Wills and Howell, 1989).
Было также показано, что домашнее насилие оказывает чрезвычайно негативное воздействие на эмоциональное здоровье ребенка и на общую адаптацию. И мальчики и девочки из семей, где практикуется супружеское насилие, становятся более депрессивными и агрессивными (McClosky, Figueredo and Koss, 1995; WoIf, Jaffc and Zak, 1985), а самооценка у них по сравнению с другими детьми занижена. Кроме того, такие дети часто обнаруживают страх, депрессию, травматические симптомы и проблемы с темпераментом (Hughes, 1988; Maker, Keminelmeier and Peterson, 1998).
Домашнее насилие воздействует также на среднесрочные и долгосрочные когнитивные функции детей, влияет на психологические установки относительно насилия и решения конфликтных ситуаций в собственной жизни. Многие исследователи делают вывод, что домашнее насилие создает у детей психологические установки, оправдывающие их собственное насилие при решении различных проблем, и приводит к фрустрации. Например, Спаккарелли, Коэтсворт и Боуден (Spaccarelli, Coatsworth and Bowden, 1995) подтвердили это, показав, что из 213 опрошенных подростков-мальчиков, осужденных за насилие, мальчики, бывшие свидетелями домашнего насилия, были более склонны описывать свою точку зрения, говоря, что «агрессивные действия укрепляют репутацию или имидж» (р. 173). Карлсон (Carlson, 1991) сообщает также, что из 101 опрошенного подростка мальчики, наблюдавшие домашнее насилие, значительно чаще оправдывали агрессию, чем девочки-свидетели домашнего насилия.
Итак, эмпирические данные показывают, что вовлечение детей в домашнее насилие — серьезная и часто встречающаяся проблема. Такое насилие воздействует на детей косвенно, через родительские отношения, и напрямую, влияя на их поведенческую, эмоциональную, когнитивную, психологическую и социальную адаптацию.
Убийство детей, младенцев и малолетних (инфантицид, неонатицид и филицид)
В этом разделе мы рассмотрим убийство детей, когда человек преднамеренно убивает ребенка или младенца и смерть наступает не в результате несчастного случая, явившегося следствием плохого обращения или небрежности. Подсчитано, что ежегодно родители или другие дети преднамеренно убивают от 1200 до 1500 детей (Emery and Fauniann-Billings, 1998). Убийство детей явление нередкое, оно все больше и больше распространяется по всему земному шару и особенно характерно для мест проживания беднейших слоев, расовых меньшинств и для крупных городов (Baron, 1993). Большая часть убийств детей совершается родителями ребенка.
Хотя термин инфантицид (infanticid) буквально означает убийство несовершеннолетнего, он стал синонимом убийства ребенка родителем. Несколько лет назад Резник (Resnick, 1970) рекомендовал разделить убийство детей на две категории: неонатицид (neonaticide) — убийство новорожденного в первые двадцать четыре часа после рождения, и филицид (filicide) — убийство ребенка, прожившего более суток. Новорожденные, младенцы и дети в возрасте от года до четырех лет более уязвимы для убийства, чем дети в возрасте от пяти до девяти лет (Reiss and Roth, 1993). Количество убийств детей в возрасте до пяти лет возрастало с 1976 по 1995 год и убывало с 1996 года. Из всех детей в возрасте до пяти лет, погибших насильственной смертью с 1976 по 1999 год, 31 % детей убиты отцом, 30 % — матерью, 23 % — знакомыми мужчинами, 13 % — другими родственниками и 3 % — незнакомыми людьми (Управление судебной статистики, 2001) (Bureau of Justice Statistics, 2001) Из детей, убитых кем-то, кроме родителей, 82 % убиты мужчинами. Большинство убитых детей — мальчики.
Традиционно женщины, убившие своих детей, рассматривались судебной системой и психиатрами как страдающие от тяжелых эмоциональных проблем. Судебная система признавала их душевнобольными, а психиатры называли психотиками. Согласно Ане Вилжински (Ania Wilczynski, 1991, 1997), если женщина не сумасшедшая, она, в таком случае, морально порочна, бессердечна или не способна любить. В Англии и Уэльсе такие женщины до сих пор признаются либо сумасшедшими, либо безнравственными. Общество ждет от матери прежде всего проявлений любви к своим детям, заботы о них, самоотверженности и способности их защитить (Wilczynski, 1991). Любое отклонение от этого стереотипа приводит к заключению о том, что женщина либо психически больна и нуждается в проявлении к ней сочувствия, либо, напротив, глубоко безнравственна и жестока и потому заслуживает сурового наказания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: