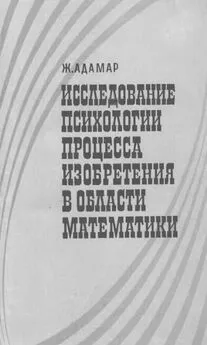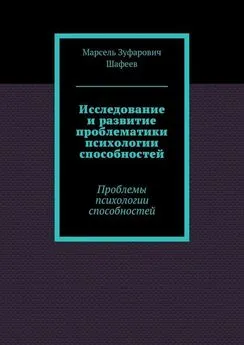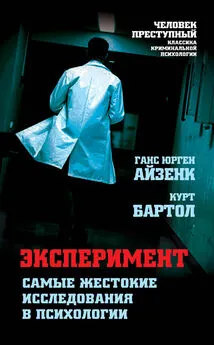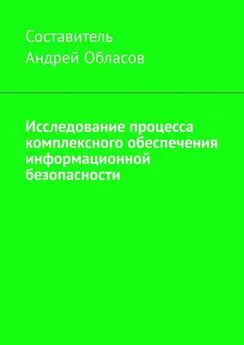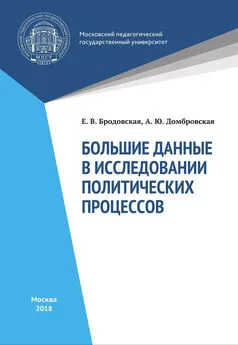Жак Адамар - Исследование психологии процесса изобретения в области математики
- Название:Исследование психологии процесса изобретения в области математики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советское радио
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Адамар - Исследование психологии процесса изобретения в области математики краткое содержание
Исследование психологии процесса изобретения в области математики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА VI
ОТКРЫТИЕ КАК СИНТЕЗ. ПОМОЩЬ ЗНАКОВ
Поль Сурьё пишет [56]: «Знает ли алгебраист, что происходит с его идеями, когда с помощью знаков он их вводит в свои формулы? Прослеживает ли он за ними на протяжении всех этапов, которые он осуществляет? Без сомнения, нет. Он их тотчас же теряет из поля зрения. Он заботится лишь о том, чтобы упорядочивать и комбинировать, в соответствии с известными правилами, материальные знаки, находящиеся у него перед глазами; и он принимает полученный результат как вполне надёжный».
В своих исследованиях математики видят вещи под иным, во многом, углом зрения. Не то, чтобы утверждение Сурьё было полностью ошибочным. Можно грубо считать его верным применительно к конечному этапу проверки и «завершения», о котором уже говорилось в предыдущей главе; но даже в этом случае не всё происходит так, как он это говорит. Математик не оказывает такого слепого доверия результатам, полученным на основании известных правил; он знает, что ошибки в вычислениях возможны и даже часты. Если целью вычисления является проверка результата, который предвидело бессознательное или подсознательное, и если эта проверка не удалась, то нисколько не исключено, что первый подсчёт ошибочен, а вдохновение право.
Если же применить это рассуждение не к финальной фазе, а к исследовательской работе вообще, то поведение, описанное Сурьё, является поведением ученика (и даже довольно плохого). Действительный ход мысли при построении математического рассуждения надо, скорее, сравнить с процессом, о котором мы упоминали в гл. II, а именно, с узнаванием чужого лица. Промежуточный случай, иллюстрирующий аналогию этих двух процессов, даёт изучение психологии шахматистов, некоторые из которых способны играть одновременно десять или двенадцать партий, не видя шахматных досок. Рядом исследователей, в частности Альфредом Бинэ [57], проводились специальные исследования с целью понять, как это происходит. Результаты этих исследований можно резюмировать так: для многих из этих шахматистов каждая партия имеет своё лицо, которое позволяет ему думать о ней как о чём-то едином, как бы сложна она ни была, точно так же, как мы видим лицо человека в целом.
Такое же явление обязательно происходит при изобретениях любого вида. Мы это видели в письме Моцарта (гл. I); подобные заявления были сделаны такими художниками, как Энгр и Роден (их цитирует Анри Делакруа, «Изобретение и гений»). Но тогда как Моцарт, любимец муз, не нуждается, кажется, ни в малейшем усилии, чтобы представить себе своё произведение как единое целое, Роден пишет: «Нужно, чтобы до конца своей работы, он (скульптор) энергично удерживал в полном свете своего сознания свою идею ансамбля с тем, чтобы непрерывно пополнять её мельчайшими деталями своего произведения и увязывать их с нею. И без очень напряжённого усилия мысли дело идёт плохо».
Точно так же, всякое математическое рассуждение, как бы сложно оно ни было, должно мне представляться чем-то единым; у меня нет ощущения, что я его понял, до тех пор, пока я его не почувствовал как единую, общую идею. И, к сожалению, это часто требует от меня, как и от Родена, более или менее мучительного усилия мысли.
Исследуем теперь вопрос, который, как я намерен показать, имеет отношение к предыдущему: помощь, оказываемая мысли конкретными представлениями. Такое исследование, принадлежащее к области прямого самонаблюдения, возможно лишь благодаря тому краевому сознанию, которое мы упоминали в конце гл. II. Вместе с тем мы увидим, что основные результаты этого исследования, вероятно, применимы и для исследования глубоко бессознательных процессов, хотя последние нам прямо и неизвестны.
Наиболее классическим типом знаков, которые могут кооперироваться с мыслями, являются слова. Мы здесь находимся перед любопытным вопросом, мнения по которому являются совершенно различными.
Впервые я обратил внимание на этот вопрос, когда в 1911 г. я прочёл в «Le Temps» [58]: «Идея может быть понята лишь с помощью слов и существует лишь с помощью слов» [59]. У меня сложилось твёрдое впечатление, что идеи редактора по рассматриваемому вопросу были довольно посредственными.
Но ещё более поразительным для меня было узнать, что такой известный филолог и востоковед, как Макс Мюллер, утверждает [60], что никакая мысль невозможна без слов [61], и даже написал следующую фразу, совершенно непонятную для меня: «Как мы знаем, что небо существует и что оно голубое? Знали ли бы мы небо, если бы не было для него названия?» И он не только вместе с Гердером допускает, что «без языка человек никогда не мог бы достигнуть своего разума», но он также прибавляет, что без языка человек не мог бы никогда обладать даже чувствами. Разве глухонемые лишены всех чувств?
Это заявление Макса Мюллера является тем более любопытным, что он заявляет, что в том факте, что мысль невозможна без слов, он находит аргумент против всякой теории эволюции, доказательство, что человек не мог произойти ни от какого животного. Но со значительно большим основанием заявление Макса Мюллера можно было бы повернуть против него самого, принимая во внимание, например, книгу Кёлера «Mentality of Apes» [62]и действия его шимпанзе, действия, которые подтверждают их способность к рассуждениям.
Макс Мюллер даёт исторический обзор мнений, высказанных по вопросу об использовании слов в мышлении (из которого мы проанализируем наиболее существенные); обзор этот не лишён интереса, во-первых, сам по себе и затем в связи с той точкой зрения, которую он защищает. Мы там, например, находим, что (первоначально греки использовали одно и то же слово logos для обозначения разговорного языка и мысли, и только позднее стали различать эти два понятия разными эпитетами — и Мюллер, естественно, заявляет, что сначала их побуждения были правильнее, чем в конце.
Схоластики средних веков подобным же образом (что, может быть, в природе вещей) ведут себя по отношению к этому началу греческой философии. Абеляр заявлял в XII веке: «Речь порождена интеллектом и порождает интеллект». Аналогичное мнение выражал и более современный философ Гоббс, который обычно симпатизировал схоластам.
Но, как правило, благодаря потоку идей, идущих от Декарта, взгляды людей по этому, как и по многим другим вопросам, оказываются иными. В Германии был лишь один период около 1800 г. (Гумбольдт, Шеллинг, Гегель, Гердер), когда философские умы были близки к «правде» (т. е. к мнению Макса Мюллера). Гегель коротко замечает: «Мы думаем словами» — как будто бы никто никогда не подвергал это сомнению.
Но другие великие философы нового времени не так уверены в идентичности речи и разума. Действительно, самые значительные среди них — идёт ли речь о Локке и Лейбнице или даже о Канте и Шопенгауэре и более близком к нам Джоне Стюарте Милле — согласны между собой в своих сомнениях. Это не значит, что Лейбниц не думает словами, но он признаётся в этом с явным сожалением [63]. Философ Беркли абсолютно категоричен, но в обратном смысле: он убеждён, что слова — большой тормоз мысли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: