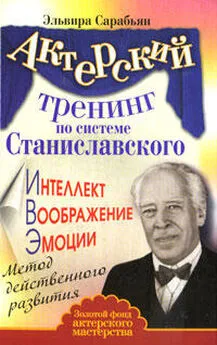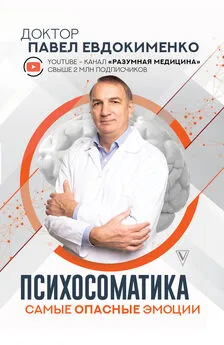Павел Симонов - Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций
- Название:Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Симонов - Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций краткое содержание
Москва: Издательство Академии наук СССР, 1962. — 139 с.
В поисках конкретных приемов произвольного воздействия на непроизвольные реакции мы обратились к методу К.С. Станиславского, созданному великим режиссером для решения своих профессиональных задач. Наша книга отнюдь не претендует на «физиологическое обоснование» теории сценического творчества. Мы озабочены гораздо больше тем, что физиология высшей нервной деятельности человека может взять у Станиславского, нежели стремлением оказать помощь театральной педагогике и театроведению. Наша книга — первая и пока что единственная публикуемая в печати попытка дать развернутый анализ метода К.С. Станиславского с позиций современной нейрофизиологии.
Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, реакция на новый раздражитель, с одной стороны, наиболее свободна от признаков угасательного торможения, а с другой — оказывается всегда усиленной механизмами врожденного ориентировочного рефлекса.
Фактор новизны представляет собой подлинную основу актерских приспособлений. Новизна творческого вымысла, внезапный перенос действия в непривычный уголок сценического пространства, изменения в игре партнера могут стать мощными возбудителями чувств. В приспособлениях всегда ценна неожиданность. Важная реплика, произнесенная шутливым тоном, не только производит большое впечатление на зрителей, но возбуждает самого актера, включает подсознательные механизмы сценического переживания. Отмечая это свойство приспособлений, К.С. Станиславский опять-таки требует косвенного воздействия на зрителя через неожиданность приспособления прежде всего для самого актера. Он предупреждает, что попытки превратить приспособления в самоцель, в намеренный эффект для зрителей ведут к трюкачеству, к дивертисменту. Приспособления ни в коем случае не должны нарушать логику и правдоподобие физических действий, не должны противоречить предлагаемым обстоятельствам пьесы. В качестве примера удачного приспособления можно привести эпизод с частушкой из спектакля «Фабричная девчонка» в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. Когда Женя Шульженко (артистка Доронина) слышит от Феди признание в любви, она сперва замирает, а потом звенящим от счастья голосом поет… частушку, пританцовывая на месте. На мгновение зритель теряется, его поражает неожиданность реакции Жени, и через секунду зритель восхищен и взволнован, ибо ощущает всю глубокую внутреннюю обоснованность именно такой реакции героини. В доли секунды зритель вспоминает, насколько привыкла Женя отвечать на происходящие вокруг нее события частушкой, как непроизвольно и искренне вырывались у нее чужие слова о своей девичьей радости. Женя не может, именно не может скрыть радости, своего ликования. В ее песне есть что-то детски непосредственное, чего нельзя и не надо скрывать. Приспособление актрисы захватывает зрителя, заставляет его пережить ярчайшую минуту художественного откровения.
Важная роль в актерских приспособлениях принадлежит явлению контраста. В основе контраста всегда лежит сопоставление противоположных по своему характеру впечатлений, причем сила раздражителя значительно возрастает, если он действует сразу после или на фоне противоположного ему раздражения. Изучая восприятие контрастных впечатлений, мы встречаемся с различными физиологическими механизмами. Вот некоторые из них.
Эффект раздражения зависит от наличного функционального состояния центральной нервной системы. В обычных условиях свет более слабый раздражитель, чем звук. В темноте величина условного рефлекса на световой раздражитель достигает величины рефлекса на звук (А.И. Макарычев, 1947).
Дело в том, в темноте чувствительность зрительного анализатора возрастает и физиологическая сила световых раздражителей увеличивается.
Большую роль в явлениях контраста играют индукционные отношения. Мы знаем, что очаг возбуждения создает вокруг себя зону торможения (одновременная индукция), что торможение возникает на месте бывшего возбуждения, как только будет устранено (последовательная индукция). Благодаря индукции эффект раздражения в значительной мере зависит от того, после каких раздражителей действует наш сигнал, какое состояние нервных клеток он застает в коре больших полушарий. Так, эффект может вовсе отсутствовать, если сигнал применен после сильного раздражения, вызвавшего последовательное индукционное торможение. Специальные опыты показывают, что различение (дифференцировка) раздражителей достигаете скорее, если дифференцируемый (неподкрепляемый) раздражитель постоянно чередуется с положительным (подкрепляемый раздражителем. Механизм этого явления заключается в суммации дифференцировочного торможения с индукционным торможением, возникающим после действия положительного сигнала.
Непосредственное отношение к явлению контраста имеют так называемые рефлексы на отношение, рефлексы на признак предмета, появляющийся только при сравнении этого предмета с другими сходными объектами (В.П. Протопопов, Н.Н. Ладыгина-Котс, М.М. Кольцова, 1952; В.И. Чумак, 1956, 1957 и др.) Если мы выработаем пищевой условный рефлекс на стук метронома 120 ударов в минуту и отдифференцируем, угасим частоту 60 ударов в минуту, а потом дадим метрономы 200 ударов и 120 ударов, то метроном 200 приобретает положительное значение в то время как бывший положительный метроном — 120 окажется без эффекта. Напротив, при включении метрономов 60 и 30 ударов в минуту бывший отрицательный метроном 60 даст положительный эффект. Мы видим, что в данном случае решающее значение имеет не абсолютная частота метронома, а их оценка по принципу: какой из двух метрономов стучит чаще, а какой реже.
М.М. Кольцова (1952) приводит интересные наблюдения за естественными рефлексами на отношение у детей. Перед ребенком всегда клали десертную ложку, в то время как взрослые ели столовыми. Когда мать по ошибке дала ребенку столовую ложку, он положил рядом с тарелкой матери разливательную. Другой пример. Ребенок охотно играл с маленьким белым котенком и боялся белой собаки. Увидав однажды большую белую козу, он перестал бояться собаки, ибо коза значительно превосходила собаку своими размерами. Перечисленные нами физиологические механизмы (индукция, рефлексы на отношение, роль фона) далеко не исчерпывают природу контраста. И все же наличие этих механизмов убеждает нас в том, что использование явлений контраста в сценическом творчестве опирается на определенные объективные закономерности. Правило К.С. Станиславского «когда играешь злого, ищи, где он добрый» , не только способствует всесторонней характеристике образа, но в силу контраста позволяет выделить, оттенить наиболее важные черты персонажа. На фоне редких проявлений доброты основная черта изображаемого лица — злость — становится выпуклее и ярче.)
Сценическое переживание, возникшее под влиянием «пускового толчка» на фоне правильного самочувствия, владеет актером какое-то определенное время, более или менее продолжительное. Исчезновение переживания требует новых толчков, новых «катализаторов» . Если артист сохраняет правильное сценическое самочувствие, эти «катализаторы» не замедлят явиться и оказать свое действие. Творческий процесс превращается в ряд вдохновений, вызываемых произвольно. Мы знаем, что основу ряда вдохновений составляет благоприятная почва для сценического переживания, которую артист создает при помощи физических действий, обоснованных задачами, «если бы» , воображением и общением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: