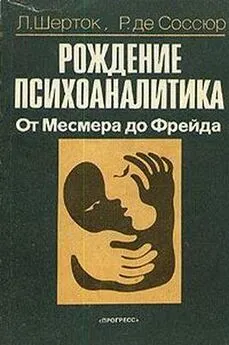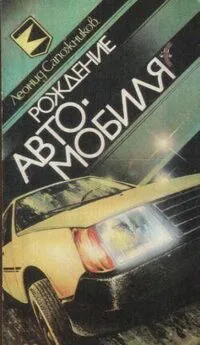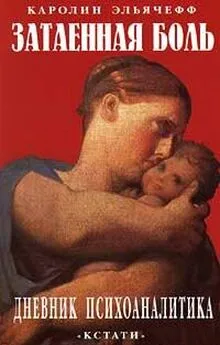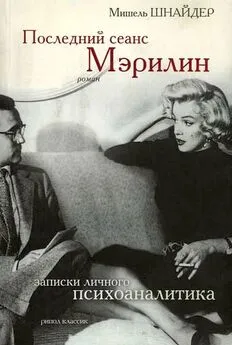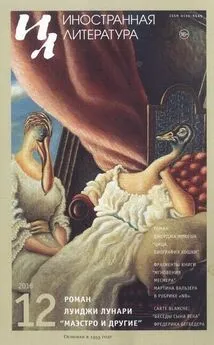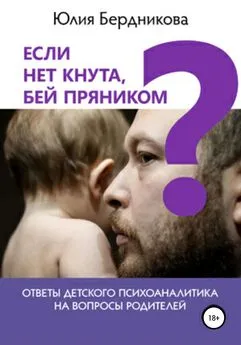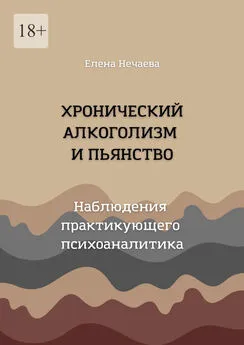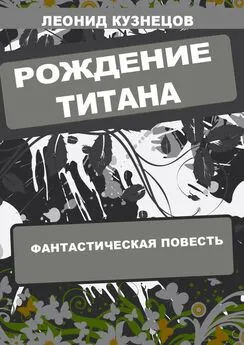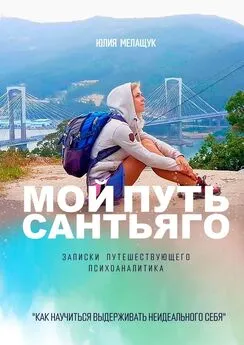Леон Шерток - Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда
- Название:Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леон Шерток - Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда краткое содержание
М.: Прогресс, 1991. — 288с. ISBN 5-01-002509
Перевод с французского и вступительная статья доктора философских наук Н. С. Автономовой
В книге излагается история психотерапевтических учений, начиная с концепции «животного магнетизма» Месмера и кончая открытием бессознательного в психике человека и возникновением психоанализа Фрейда.
В электронной версии книги нет Указателя.
Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В наши дни эти слова никого уже более не убеждают. Психоаналитик лакановской школы Франсуа Рустан подверг их строгой критике, усомнившись в самой «истине психоаналитической реконструкции»: «Без воспоминания или его дополнения — повторения, без работы, которую пациент должен совершить над вновь возвращаемым ему материалом, что останется от аналитического метода? Ничего кроме „излечения посредством внушения“» {439} .
А уж если психоанализ не вполне свободен от прямого внушения, то что говорить о внушении косвенном? Фрейд надеялся, что трансфер снимает эту проблему. Очевидно, что такой путь приемлем, только если и сам трансфер в свою очередь устраняется. Однако и в этом мы совсем не уверены. Трансфер далеко не всегда «разрешается» в конце лечения. Это же относится и к контртрансферу, хотя, конечно, его устранение в программу лечения не входит.
Роль эмпатии
Мы приходим, таким образом, к мысли, что непрямое внушение — это аффективная данность, не устраняемая при ее осознании. Она существует на архаическом доязыковом и досимволическом уровне, подобно отношению матери и младенца, которое в послевоенный период исследуют некоторые психоаналитики. Назовем здесь таких английских авторов, как Боулби {440} , Малер {441} , Уинникот {442} , Масуд Кан {443} , или таких американских, как Когут {444} , Кернберг {445} , Сиерлес {446} . В своих исследованиях они приходят в выводу, что между матерью и младенцем, устанавливаются те самые отношения слияния и симбиоза, которые вновь обнаруживаются в психоаналитическом отношении врач — пациент. Отсюда особое значение эмпатии в психоаналитическом лечении: слово «эмпатия» обозначает тесное аффективное общение, образцом которого служит первоначальное отношение матери и младенца.
Быть может тогда вовсе не осознание — основа психоанализа во фрейдовском смысле? По мнению Рустана, «вполне возможно, что всякий анализ вновь оборачивается внушением» {447} . Поэтому «длительный анализ есть постепенное, нить за нитью, плетение некоей симбиотической ткани, в которой бессознательные элементы все больше и больше, хотя и безмолвно, сообщаются друг с другом под покровом языкового анализа» {448} .
С этой точки зрения роль психоаналитика весьма далека от требований классической теории: он более не может быть просто «механизмом» истолкования независимо от своей воли, поскольку он вовлечен в аффективный обмен, но может ли он тогда быть готовым к ответу на призыв больного? Именно такой готовности к ответу требует, например, Сиерлес при лечении психотиков. Можно предположить, что подобная установка может оказаться столь же полезной и при лечении невротиков.
Однако, заметим, признавая целительные свойства эмпатии, врач пользуется понятием, о котором он почти ничего не знает. Маннони говорит даже, что понятие эмпатии — это ничего не объясняющая отговорка. Она связана с аффектами, которые Фрейд в 1920 году назвал «наименее ясной и наименее доступной областью психической жизни» {449} . С тех пор психоаналитики неустанно стремились узнать о ней как можно больше. В 1974 году Рэнджел, бывший президент Международной психоаналитической ассоциации, заявил: «Ныне мы не располагаем законченной психоаналитической теорией в области аффекта, более того, теория аффекта невозможна без одновременного учета как физиологических, так и психоаналитических факторов» {450} . Иначе говоря, всякое исследование аффектов упирается в глубинную проблему взаимосвязи между физиологией и психологией, между телесным и межличностным. Проследить взаимосочленения этих двух порядков реальности нелегко. Однако в некоторых явлениях эта взаимосвязь ярко видна; таковы явления, которые возникают в результате гипнотического внушения, а именно эффект обезболивания, допускающий хирургическое вмешательство, или же возникновение волдыря в результате внушенного под гипнозом ощущения ожога {451} .
Интересно, что уже в 1944 году Кьюби и Марголин {452} в своих работах о гипнозе описывают гипнотическое отношение, весьма сходное с отношением мать — младенец. Они показали, что, реагируя лишь на воздействия гипнотизера, пациент в результате регрессии сливается с ним. Позднее Кьюби скажет, что в ходе гипнотической индукции гипнотизер и пациент как бы «поглощают друг друга» {453} . Мы выдвинули гипотезу, согласно которой гипноз обнаруживает «врожденную исходную потенциальную способность к установлению отношений, слагающихся в некую как бы незаполненную матрицу, в которую в ходе дальнейшего развития будут вписываться все последующие системы отношений» {454} .
Внушение под судом
Для того чтобы побольше узнать о непрямом внушении, мы должны обратиться к гипнотическим феноменам. Значит ли это, что речь идет о возврате к до-аналитическому периоду, когда гипноз имел первостепенное значение в психотерапии? Отнюдь нет. Мы вовсе не собираемся подвергать сомнению достижения психоанализа. Однако ныне утверждается, что психоанализ — это не чисто когнитивная конструкция, что важное место в нем занимают аффекты, а значит, психоаналитикам пора обратиться к проблеме внушения, сняв табу, которым до сих пор отмечено это понятие.
С самого своего появления (по Блоку и фон Вартбургу — в 1174 году) слово «внушение» имело отрицательные смысловые коннотации. Оно, как и глагол «внушать», который вошел в употребление с конца XV века, связывалось с представлениями о колдовстве и нечистой силе. В своих «Размышлениях о Евангелии» Боссюэ изобличает «внушения» дьявола. Отметим, что соответствующие формы «suggestion», «to suggest» (они употребляются с конца XVI века) также имеют отрицательный смысл. Так, в Кратком оксфордском словаре (1933) сообщается, что глагол «to suggest» в 1599 году означал «подстрекать или искушать ко злу» (положение дел изменилось лишь в середине прошлого века). Литтре отмечает, что о внушении «иногда говорят и в хорошем смысле». Наступила эпоха позитивизма, когда все психологические явления должны были стать объектом непредубежденного научного исследования.
Однако реабилитация этих слов была неполной. Они всегда оставались «под подозрением». Именно поэтому они и не фигурируют среди терминов в Психоаналитическом словаре Лапланша и Понталиса. Правда, составители словаря, по собственному признанию, стремились включить в него лишь термины, употребляемые самими психоаналитиками, а они действительно избегают говорить о внушении. Тем самым они как бы хотят показать свою верность Фрейду, который в 1892 году, после знаменитой сцены с больной, бросившейся ему на шею после гипнотического сна, решил отказаться от гипноза. Однако Фрейд не переставал интересоваться внушением с теоретической точки зрения. Он вновь обращается к гипнозу в 1921 году в своей работе «Психология толпы и анализ Я», заявляя, что внушение — это «изначальный и неустранимый феномен, фундаментальный факт психической жизни человека» {455} . Хотя Фрейду и не удалось раскрыть природу внушения, он не считал его непознаваемым, и поэтому быть верным Фрейду — значит продолжить начатые им исследования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: