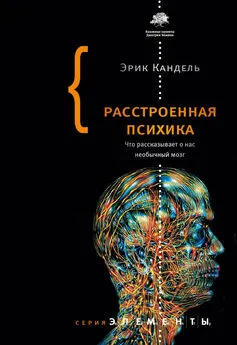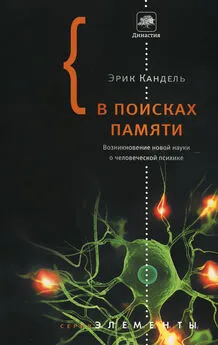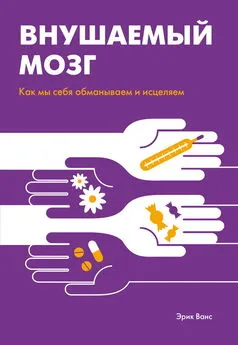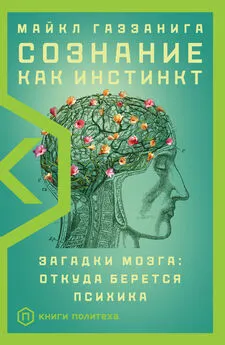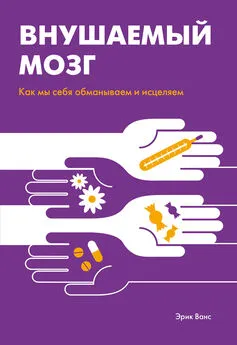Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг
- Название:Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-119013-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первым заинтересовался искусством психотических больных Филипп Пинель – тот самый врач, который разработал гуманный, психологический подход к лечению пациентов психиатрических клиник. В 1801 году он написал работу о творчестве двух своих психически больных пациентов и сделал вывод, что иногда безумие проявляет скрытые художественные таланты 66 . В 1812 году Бенджамин Раш, один из отцов-основателей США и основатель американской психиатрии как отдельной дисциплины, согласился с Пинелем. Он написал, что безумие подобно землетрясению, которое “сотрясает верхние слои нашей планеты и выбрасывает на поверхность прекрасные, ценные ископаемые, хотя собственники земли, где они залегали, и не догадывались об их существовании” 67 .
В 1864 году итальянский врач и криминолог Чезаре Ломброзо собрал работы 108 пациентов и опубликовал книгу Genio e Follia , или “Гениальность и помешательство”, которую впоследствии перевели на английский. Как и Раш, Ломброзо обнаружил, что безумие превращало людей, которые никогда прежде ничего не рисовали, в настоящих художников, но при этом Ломброзо видел в таком искусстве лишь проявление болезни, оставаясь безразличным к его художественной ценности 68 .
Отец современной научной психиатрии Эмиль Крепелин рассматривал взаимосвязь психоза с творчеством с менее романтической позиции, но при этом умел ценить увиденное. В 1891 году он возглавил психиатрическую больницу Гейдельбергского университета и вскоре после этого заметил, что некоторые из его пациентов-шизофреников писали картины. Он начал собирать работы этих пациентов в “учебную коллекцию” ( Lehrsammlung ), чтобы узнать, может ли изучение картин помочь врачам в диагностике расстройства. Крепелин также полагал, что занятия живописью могут влиять на пациентов терапевтически, и сегодня многие согласны с такой точкой зрения.
Следующий директор Гейдельбергской больницы, Карл Вильманнс, продолжил заведенную Крепелином традицию коллекционирования картин психотических пациентов и в 1919 году привлек к работе с коллекцией Ганса Принцхорна. Психиатр и историк искусства, Принцхорн изучал историю искусств под руководством Алоиза Ригля.
Со временем Принцхорн расширил коллекцию. Поскольку творчеством занималось не более 2 % обитателей Гейдельбергской больницы, он попросил руководителей других психиатрических лечебниц – в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландах – присылать ему работы их психотических пациентов. В результате Принцхорн получил более 5 000 живописных и графических работ, скульптур и коллажей, над которыми трудились примерно 500 больных.
Пациенты, чье творчество собирал Принцхорн, обладали двумя существенными характеристиками: они испытывали психотические симптомы и были художественно наивны, то есть никогда не обучались искусству. Принцхорн заметил, что творчество психотических пациентов не просто переводит их патологию на визуальный язык. В большинстве их работ явно читалась нехватка художественных навыков, которая роднила их с работами любого неопытного взрослого, решившего начать рисовать, а следовательно, в ней самой не было ничего патологического. Принцхорн понял, что картины пациентов были самобытными творческими работами – замечательными образцами наивного искусства.
Однако, как не преминул отметить Принцхорн, наивным искусством занимались не только люди с психозами. Прекрасный пример художника без специальной подготовки и психотических симптомов представляет Анри Руссо (1844–1910). При жизни критики часто высмеивали Руссо, который работал сборщиком пошлин на французской таможне, но его творчество имеет исключительную художественную ценность. В конце концов его признали гением-самоучкой и важной фигурой постимпрессионизма (илл. IV и V, см. цветную вклейку), а его работы оказали влияние на несколько поколений художников, включая Пикассо и сюрреалистов. Хотя Руссо никогда не выезжал за пределы Франции, на самых известных его картинах запечатлены сцены в джунглях (илл. V). Вдохновение для этих сцен он черпал из своего бессознательного воображения.
В начале XX века пациенты оставались в психиатрических больницах, как правило, до самой смерти, проводя там от 20 до 40 лет. Некоторые из них начинали писать картины после госпитализации. Видный специалист по психологии искусства Рудольф Арнхайм отмечает:
Тысячи госпитализированных пациентов пользовались клочками писчей, туалетной и оберточной бумаги, хлебом или деревом, чтобы наглядно выразить сильное психическое смятение, создаваемое их муками, отчаянием, протестами против заточения и мегаломанскими идеями [70] Мегаломанские идеи , или просто мегаломания – бредовые идеи величия; патологически преувеличенные представления о собственной значимости и известности.
. И все же среди психиатров лишь немногие, опережавшие свое время, усматривали в этих жутковатых образах диагностический потенциал и раздумывали над их косвенной значимостью для постижения природы человеческого творчества 69 .
Восхищение нестандартностью и эстетической ценностью творчества пациентов помогло Принцхорну понять, что многие аспекты искусства, позже названного психотическим, не просто курьезны, а заслуживают серьезного изучения. Как замечает нынешний директор “Коллекции Принцхорна” Томас Рёске, картины помогали обрести голос тем людям, которые иначе остались бы неуслышанными, – и часто их голоса оказывались довольно узнаваемыми 70 .
Мастера-шизофреники Принцхорна
В 1922 году Принцхорн опубликовал весьма авторитетную книгу “Художественное творчество душевнобольных. Вклад в психологию и психопатологию гештальта [71] Гештальт – целостный образ объекта, сформированный восприятием этого объекта с учетом “вклада зрителя”, то есть по сути своей нечто большее, чем простая сумма элементов, воспринимаемых органами чувств.
” ( Artistry of the Mentally Ill: A Contribution to the Psychology and Psychopathology of Configuration ), которую проиллюстрировал примерами из гейдельбергской коллекции 71 . Из 500 художников, работы которых вошли в коллекцию, 70 % страдали шизофренией, а 30 % – биполярным расстройством. Эти пропорции в некоторой степени отражают частоту госпитализации людей с упомянутыми диагнозами. Принцхорн сделал акцент на работах 10 пациентов, которых он назвал “мастера-шизофреники”. Он изложил историю болезни каждого художника, заменив имена псевдонимами, а затем проанализировал сами работы и возможности их использования в диагностике и наблюдении за течением болезни их создателей.
Принцхорн описывал этих пациентов страдающими “полной аутистической изоляцией, <���…> которая являет собой суть шизофренического состояния” 71 , а их творчество характеризовал “беспокойным чувством инаковости” 71 . По мнению Принцхорна, их искусство отражало “выплески общечеловеческой жажды творчества” 71 , противодействующие испытываемому пациентами чувству изолированности. Поскольку большинство его художников были самоучками, Принцхорн использовал их творчество и для того, чтобы продемонстрировать удивительные параллели с работами детей и художников из примитивных обществ. В каждом из этих случаев работы отражали природные художественные способности, которые есть у всех нас. Художники Принцхорна часто видели в чистом листе бумаги пассивную пустоту, которая взывала о заполнении. В результате они стремились покрыть изображениями всю поверхность листа. Это заметно в работах трех принцхорновских мастеров-шизофреников: Петера Муга (илл. VI, см. цветную вклейку), Виктора Орта (илл. VII) и Августа Наттерера (илл. VIII).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: