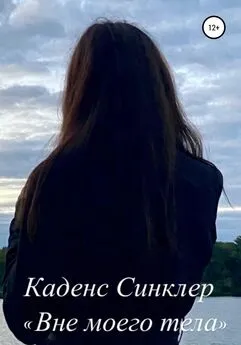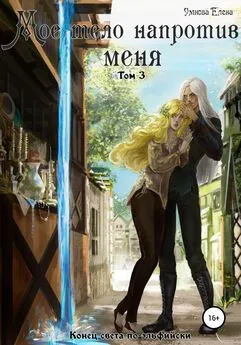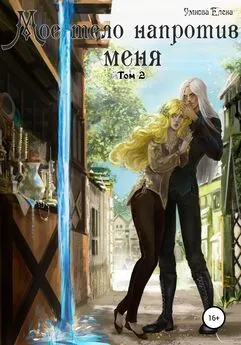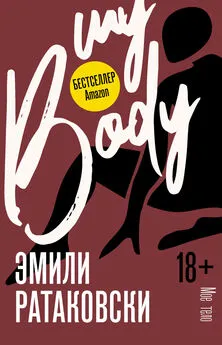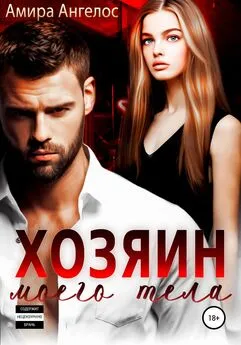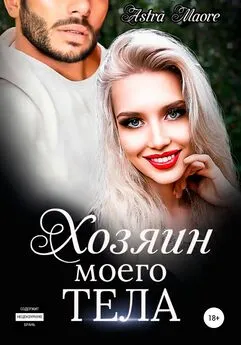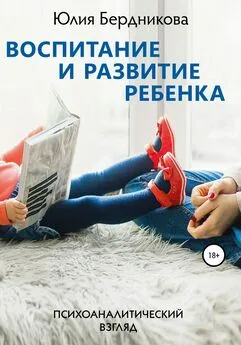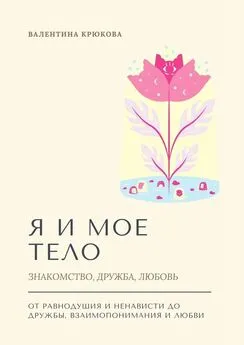Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Название:«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Когито-Центр
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-537-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] краткое содержание
«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, существуют серьезные травмирующие воздействия, которые могут нарушить способность к символизации, представлению и предположению у людей, которые до этого росли относительно счастливо. Мыслительный процесс прекращается, появляется «механически послушное существо» (Ferenczi, 1933), на место человека встает «глухота». Представить травматическую ситуацию было бы невыносимо, и она заменяется конкретизацией: «Индивид надеется смягчить ужас реальности с помощью действий, отменить случившееся или облегчить его отрицание. <���…> Конкретизирующее действие создает ситуацию, которая как бы находится под контролем индивида и помогает подавить гнев и тревогу в своих исполняющих желания аспектах» (Bergmann,1995, S. 345 и далее). Таким образом, регрессию многих пограничных пациентов, особенно среди женщин, можно понимать как деструктивное телесное агирование. Диссоциированное тело превращается в ребенка, когда-то подвергшегося насилию, т. е. в репрезентацию матери, с которой человек сливается в боли. Так же как в случае с ранними травмирующими ошибочными реакциями матери, ребенок интернализирует нечто чуждое, что потом действует изнутри как чужеродное тело (Fonagy et al., 2002, S. 368). За «глухотой» во время травмирующих событий следует умственное расстройство вплоть до псевдодебилизма (Hirsch, 1987, S. 215), во многих семьях существует запрет на разговоры и, соответственно, мысли о тех или иных вещах, а в случае с сексуальным насилием это уверенная тенденция. «Жертва не может говорить с насильником о том, как будут развиваться их отношения» (Marrone, 2004, S. 125). Ребенок удерживается от того, чтобы думать о психологии взрослых, «потому что это исследование не привело бы его к приятным открытиям» (Dornes, 2004, S. 191). Такие дети уходят из «мира мышления» и «таким образом избегают мыслей о намерениях своих опекунов навредить им» (Fonagy, 2000, S. 1133). С другой стороны, пограничные пациенты научились улавливать скрытые аспекты тех, с кем состоят в отношениях, чтобы готовиться к тому, что может произойти. Но при этом они не могут использовать то, что воспринимают, для организации собственного «Я», которое остается хаотичным (Dornes, 2004, S. 191).
Антье Ингерфельд
20-летняя Антье хочет пройти терапию из-за продолжительного беспокойства. Она постоянно подвергает себя стрессу, а потом страдает болями в животе, вздутиями и кусает ногти. Ей приходится проявлять свои умения перед другими людьми, и ее очень это заводит, хотя она совершенно этого не хочет. Она думает, что она либо гораздо лучше, либо гораздо хуже других. У нее все еще случаются приступы обжорства — раньше они заканчивались рвотой, но с этим она завязала, после того как начала вокальное образование. Отец постоянно придирался к ее фигуре. Она испытывает тревогу, особенно когда поет. «С мальчиками все тоже не очень». Она чаще влюбляется в мужчин постарше, чувствует потребность упасть, чувствует себя пассивной, изнуренной. Когда ей плохо, она хочет исчезнуть — не умереть, а просто исчезнуть. Раньше она чувствовала себя «как в фильме». Антье начала индивидуальную терапию с двух снов: в первом в квартире были люди, которые все перерыли, прочли ее дневники, посмотрели все школьные работы. Она притворилась спящей и терпеливо наблюдала за людьми. Во втором сне мать напивается и закатывает истерические сцены. Она кричит, что теперь у нее есть средство, которое может заменить алкоголь. Таким образом мать признала свою зависимость. Антье говорит: «Мать — это я сама».
Понятно, что терапия перероет всю ее жизнь и что она, с другой стороны, надеется, что терапия станет способом преодолеть зависимость.
Антье, очевидно, много думала о своей жизни, постоянно расспрашивала родителей об их прошлом. Родители хотели детей и были женаты уже примерно три года, когда мать забеременела. Роды должны были быть «тяжелыми», но осложнений не было. Мать устала после родов и не могла испытывать чувства к ребенку. У нее была депрессия, потому что «материнское счастье» не наступало. Отец хотел мальчика, а у матери не было предпочтений. Бабушки и дедушки с обеих сторон хотели мальчика. Отец обращался с Антье как с мальчиком, и раньше ей казалось это чем-то хорошим. Мать не оправилась от депрессии и начала терапию, когда Антье было три года. Отец рассказывал, что мать только сидела в углу и ничего больше не делала. Наряду с терапией ей прописали медикаменты. Иногда у нее случались «мании», и тогда она вела себя агрессивно в отношении ребенка. Мать хотела заставить ее питаться определенным образом. Родители много ссорились, отец отдалился от матери, и у них с Антье сложились приятельские отношения. Мать не закончила профессиональное образование, но до рождения ребенка была успешным секретарем. Семейная легенда гласит, что депрессия усилилась, потому что в возрасте трех лет Антье сама ушла на улицу, прочь от матери, и мать свалилась в «депрессивную яму».
Тут задумываешься, что вроде бы однозначное желание родителей иметь ребенка было не таким уж ясным, что депрессия матери началась уже после родов: она бросила работу и не справлялась с материнскими обязанностями. У матери началась депрессия, когда появилсяребенок ( рождение ) , и во второй раз она проявилась, когда ребенок начал совершать самостоятельные шаги, удалятьсяот нее. Отец, напротив, производит впечатление человека, который хотел ребенка, чтобы тот стал его товарищем, приятелем, и желательно был бы мальчиком.
Во время визита к врачу в возрасте четырех недель младенец «посинел», потому что там было холодно, но отец решил, что мать не умеет обращаться с младенцем. У врача возникло подозрение на порок сердца, и он направил ребенка на «обследование» в больницу, из которой родители забрали ребенка спустя четыре недели вопреки рекомендации врача. Порок сердца так и не выявили. Из-за направления в больницу в возрасте шести недель девочку резко перестали кормить грудью, из-за перевозбуждения мать снова начала курить. После пребывания в больнице у ребенка начались расстройства пищевого поведения, он срыгивал все. В течение первого года жизни младенец выносил только молоко — все остальное вызывало рвоту. Педиатр напугал родителей тем, что если ребенок не начнет есть твердую пищу, это повредит его мозг, мать должна была заставлять его есть, что она и попыталась сделать, но потом сдалась.
Одно из первых воспоминаний детства: родители сидят за столом и завтракают. Мать купила новую, необычную кашу. Антье новая каша не нравится, и она обижена. Она говорит, что хочет убежать. Снаружи идет дождь. Мать дает ей зонтик и говорит: «Давай, уходи!».
Из-за ранних проблем с пищевым поведением уже в раннем детстве сформировалась фиксация на еде, которой уделялось повышенной внимание. Бросается в глаза, с какой энергией взрослые, в том числе и педиатры, манипулировали пищевым поведением детей еще в 1960-х годах. Очевидно, конкретной травмирующей ситуации не было: травматизация складывается из депрессии матери, того, что в глазах отца она была «всего лишь» девочкой, и пребывания в больнице.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/1145734/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch.webp)
![Стелла Грей - Владелец моего тела [litres]](/books/1063514/stella-grej-vladelec-moego-tela-litres.webp)