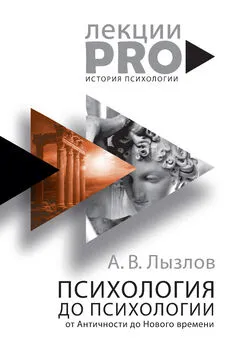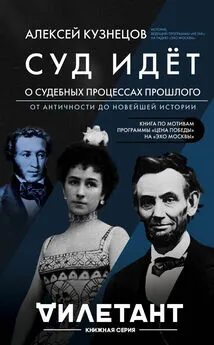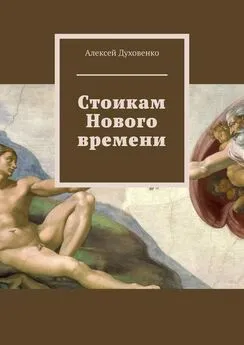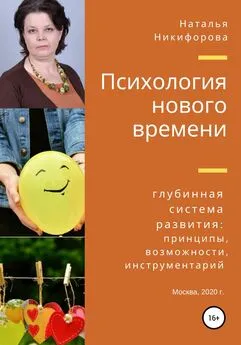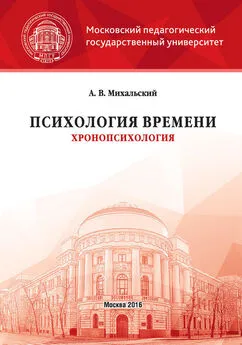Алексей Лызлов - Психология до «психологии». От Античности до Нового времени
- Название:Психология до «психологии». От Античности до Нового времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:978-5-386-10010-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Лызлов - Психология до «психологии». От Античности до Нового времени краткое содержание
Психология до «психологии». От Античности до Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот Лейбниц пишет свой ответ Локку, который называет «Новые опыты о человеческом разумении». Он подробно стремится разобрать труд своего оппонента, причем, как хороший полемист, он всегда готов подчеркнуть сильные стороны у автора, с которым он полемизирует, увидеть силу его аргументов. Но в то же время он показывает и то, в чем он с Локком согласиться не может. И это прежде всего касается локковского понимания души как tabula rasa, как чистой доски, на которой опыт пишет свои письмена. Локк говорит о том – и этот тезис будет с энтузиазмом воспринят психологами XVIII века, особенно французскими просветителями, – что в разуме нет ничего такого, что прежде не было бы в ощущениях. Лейбниц останавливается на этой формулировке и говорит: да в разуме нет ничего, что не проистекало бы из ощущения, кроме самого разума. То есть сам разум уже определенным образом устроен. Локк, говоря о душе как tabula rasa, не замечает того, что одновременно он предполагает определенное устройство разума, что его понятия ощущения и рефлексии описывают не то, что проистекает из опыта, а устройство самого разума, которое предшествует обработке этого опыта. Опыт, говорит Лейбниц, воздействует на нас не подобно тому, как мел произвольным образом ложится на чистую доску, но воздействует на нас сообразно тому, как устроена наша душа. Опыт ложится не на пустое место. Действительно, мы знаем многое о мире из опыта, но этот опыт – наш опыт, а мы уже каким-то образом устроены с самого начала.
Лейбниц сравнивает душу с глыбой мрамора. Он говорит, что скульптор, работая с мрамором, не может, в отличие от человека, пишущего на чистой доске, сообразовываться только со своим замыслом и работать без всякого взаимодействия с материалом. Скульптор сообразуется со строением самого мрамора, потому что мрамор имеет прожилки, которые нужно учитывать, чтобы наносить правильный удар резцом. Если он будет работать, исходя исключительно из увиденной в воображении формы, без учета строения самого мрамора, скульптура у него не выйдет.
И вот Лейбниц говорит, что наша душа подобна мрамору с прожилками и эти прожилки как бы преднамечают то, к каким результатам может привести обработка этой души, обработка ее опытом. Опыт, подобно резцу скульптора, наносит определенные удары по «мрамору» души, но он сообразуется с определенными «прожилками», которые в ней есть.
Мы переходим теперь к рассмотрению истории психологии XVIII века. И здесь нужно сказать следующее. Уже в XVII веке мы видим появление национальных линий философии. Английский эмпиризм, французский рационализм в лице Декарта, Лейбниц, с которого во многом начинается немецкая философия Нового времени. В XVIII веке эти три линии: французская, английская и немецкая – будут взаимодействовать, но при этом они еще более выпукло станут друг от друга отличаться. Если в XVII веке эти национальные линии еще только начинают оформляться, в XVIII веке каждая из них уже имеет свой узнаваемый колорит. Развитие этих линий связано и с развитием философствования на национальных языках. До XVII века основным языком философии и науки была латынь. Французский философский язык начинает развиваться с Декарта. Локк пишет свои «Опыты о человеческом разумении» на английском языке. В XVIII веке Х. Вольф начнет формировать язык немецкой философии.
Отличия между национальными школами философии в XVIII веке будут становиться все более выпуклыми. И мы почувствуем эти отличия, более конкретно рассматривая эти школы в контексте нашего курса.
Начнем мы с Франции. В XVIII веке уже отчетливо видна характерная черта французской философии – ее «ангажированность», как будут определять это сами французы, причем ангажированность во многом социально-политическая. Если немец, к примеру, будет стараться додумать все до конца, будет развивать как бы «сквозное» мышление, то для француза и сама философская мысль будет, как правило, некоторым родом социально-политического действия.
В XVIII веке философия будет участвовать в идейной подготовке Французской революции. При этом она окажется сильно заострена против религии и религиозной метафизики. Нередко мы будем встречаться здесь, как и при всяком такого рода заострении, с необъективностью, перегибами, непринятием во внимание возможной правоты оппонентов. Но нужно понимать, на какой почве эти перегибы возникают, чем они мотивированы.
Так, философы XVIII века, французского Просвещения, настроены весьма негативно по отношению к католической Церкви и к религиозным взглядам на человека. Но их такое отношение возникает в ответ на нездоровое положение дел в церковной среде, связанное с очень тесным сращением Церкви и государства. Высокое положение Церкви во Франции этого времени означает возможность жить, ни за что не отвечая, удовлетворяя любым своим прихотям, возможность чувствовать себя стабильно, комфортно и обеспеченно. Конечно, и в то время были честные пастыри, но очень и очень нередко можно было видеть людей наподобие дяди известного писателя маркиза де Сада, который, будучи аббатом, в своем монастыре содержал целый притон. Люди знали об этом, это видели. Церковь начинает ассоциироваться у многих людей, в том числе у философов-просветителей, с кромешной стихией лжи, лицемерия, обмана. Возникает стремление отринуть эту ложь, но вместе с ней, как правило, отвергается и христианство. Появляется стремление выстроить человеческую жизнь не на религиозных, а на рациональных основаниях. И в конечном счете все это придет к революции, которая заставит философов снова крепко задуматься. Потому что эта попытка перестроить мир под флагом разума обернется даже еще большей иррациональностью, когда страсть, жестокость, ненависть выйдут из берегов, будет литься человеческая кровь и разум окажется бессилен это сдержать.
Но пока до революции дело еще не дошло, французская психологическая философская мысль делает усиленные попытки познать человека без всякой религии и метафизики, как чисто природное существо. И мыслителям этого времени такой путь рассмотрения человека кажется более продуктивным; кажется, что на основе именно такого познания можно научиться реально воздействовать на жизнь и развитие людей и человеческого общества, можно реально улучшить человеческую жизнь. Возникают очень яркие, новаторские, но при том редукционистские модели человеческой душевной жизни. Одна из важных линий здесь будет связана с попыткой представить душевную жизнь как сложно организованный механизм. Это делает, к примеру, Ламетри в книге «Человек-машина». Ламетри настаивает на том, что мы не нуждаемся применительно к человеку в гипотезе души; Декарт в этом плане ошибался. Человек, так же как и животное, это сложноорганизованная машина. Машина, умеющая говорить, машина, которая довольно изысканно устроена, но тем не менее машина. И вот отсюда начинается в психологии тема машинности в человеке. Понятно, что Ламетри ее абсолютизирует, он настаивает на том, что, кроме машины, в человеке ничего нет, но в принципе, если мы рассмотрим эту проблему уже в свете того, что о ней можно сказать уже сейчас, не абсолютизируя позицию Ламетри, мы можем сказать, что в принципе в человеке весьма и весьма много машинных вещей. Недаром тема машинного в человеке прочно войдет в психологию. Сегодня выражение «психические механизмы» кажется чем-то очевидным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: