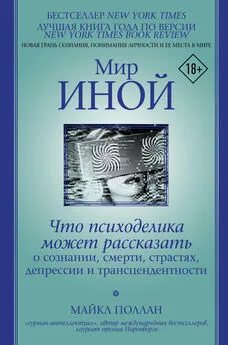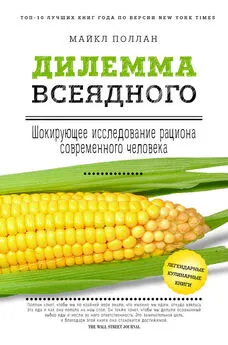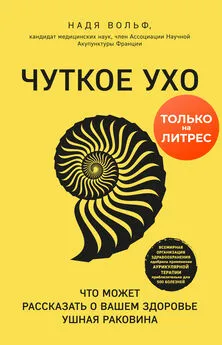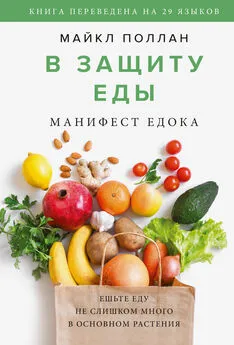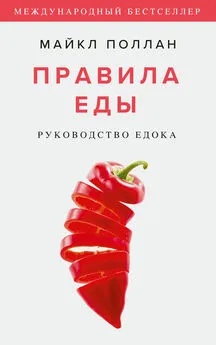Майкл Поллан - Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности
- Название:Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119981-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Поллан - Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности краткое содержание
Это уникальное сочетание истории, медицины и науки с биографическими эпизодами, захватывающее описание личного опыта, отсылающего к новому рубежу нашего понимания разума, личности и места в мире. Подлинная тема «психоделического травелога» Поллана – не только психоделики, но и неразрешимая загадка человеческого сознания – как в мире, сталкивающим нас со страданиями и удовольствиями, мы можем отыскать смысл в наших жизнях.
Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Или проглотить таблетку ЛСД. Гопник сказала мне, что больше всего ее поразило сходство между феноменологией опыта, обусловленного ЛСД, и ее пониманием детского сознания с такими его атрибутами, как высокотемпературные поиски, рассеянное внимание, повышенные психические шумы (энтропия), магическое мышление и почти полное отсутствие чувства своего «я», которые у детей сохраняются весьма продолжительное время.
«Короче говоря, младенцы и дети в основном все время отключены».
Несомненно, подобное самоуглубление интересно, но полезно ли оно? Гопник и Кархарт-Харрис убеждены, что да, полезно; более того, они полагают, что психоделический опыт, как они его себе представляют, потенциально способен помогать как больным, так и здоровым людям. Что касается последних, то психоделики, усиливая «шумы», или энтропию, мозга, могли бы выбивать их из мысленной колеи, изрядно перетряхивая их шаблонное мышление («смазывая механизм познания», говоря словами Кархарт-Харриса) так, что это не только бы улучшало их самочувствие, но и сделало бы их более открытыми и повысило их творческий потенциал. По выражению Элисон Гопник, психоделики могли бы помочь взрослым людям обрести гибкое, текучее мышление, которое у детей является их второй натурой, расширяя пространство творческих возможностей. Если, как предполагает Гопник, «детство – это пора внедрения шумов (и новшеств) в систему культурной эволюции», то психоделики могли бы делать то же самое и в системе ума взрослого человека.
Что касается больных, то наибольшую пользу из психоделиков могли бы, вероятно, извлечь те из них, кто страдает разного рода психическими расстройствами, характеризующимися такими аспектами психической ригидности, как зависимость, депрессия и одержимость.
«У взрослых наблюдается целый ряд трудностей и патологий, таких, например, как депрессия, которые связаны с феноменологией размышлений и характеризуются чрезмерно узким фокусом с акцентировкой на эго, – пишет Гопник. – Вы замыкаетесь на одном и том же предмете, не можете уйти от него, становитесь одержимым и, возможно, зависимым. Мне кажется более чем правдоподобным, что психоделические переживания могли бы вывести нас из этих состояний и дать нам возможность переписать прежние истории, касающиеся нас самих». Подобный опыт, по мысли Гопник, мог бы стать своего рода перезагрузкой – как в том случае, когда вы «вводите шум и грохот в систему», закосневшую в жестких рамках шаблонов, из которых она не может выйти. Существенно понижая активность сети пассивного режима работы мозга и ослабляя хватку эго – состояния, которые, по мнению Гопник, могут быть в равной степени иллюзорны, – можно было бы помочь таким людям. Высказанная ею мысль о возможности перезагрузки мозга во многом напоминает идею Кархарт-Харриса о встряхивании снежного шара: и то, и другое суть метафора, подразумевающая способ усилить энтропию (или тепло) в закосневшей (или замороженной) системе.
Вскоре после появления в печати статьи об энтропии мозга Кархарт-Харрис решил применить некоторые из своих теорий на практике, испробовав их на пациентах. Впервые в истории лаборатория расширила фокус своей деятельности, сместив его от чистых исследований к возможностям их практического использования в клинических условиях. Правительство Великобритании выделило Дэвиду Натту и его лаборатории грант на проведение небольшого экспериментального исследования, имеющего целью выявить потенциал псилоцибина и его способность ослаблять симптомы «некупируемой депрессии» – так называют состояние, когда пациенты не реагируют на обычные терапевтические методы лечения и лекарства.
Безусловно, что опыт подобной клинической работы у Кархарт-Харриса отсутствовал, а сама работа выходила за пределы зоны комфорта – как его собственной, так и всего персонала лаборатории. Один случай (он произошел на ранних этапах работы) ясно указывает на ту постоянную напряженность, которая существует между врачом и ученым, чьи роли существенно разнятся: если врач всецело посвящает себя больному, добиваясь его выздоровления, то ученый в основном озабочен сбором научных данных. После инъекции ЛСД (следует отметить, что это были не клинические испытания, но проводились они под руководством Кархарт-Харриса) подопытный, мужчина сорока лет по имени Тоби Слейтер, помещенный в функциональный магниторезонансный томограф, начал обнаруживать признаки тревоги и беспокойства и попросил извлечь его оттуда. После небольшого перерыва Слейтер, видимо движимый чувством долга, сам высказал желание вернуться в машину, чтобы исследователи могли завершить свой эксперимент. («Боюсь, он увидел, как я разочарован, и потому изменил свое решение», – с сожалением вспоминает Кархарт-Харрис.) Но чувство тревоги опять овладело Слейтером. «Я почувствовал себя лабораторной крысой», – поделился он со мной своими страхами. Он снова попросил выпустить его из машины и, выбравшись оттуда, попытался уйти из лаборатории. Персоналу пришлось долго уговаривать его, чтобы он остался и принял успокоительное, и он в конце концов согласился.
Описывая этот случай – одно из очень немногих незаурядных событий, наблюдавшихся в ходе исследований в Имперском колледже, – Кархарт-Харрис характеризует его как «весьма полезный опыт»; видимо, таковым он и оказался, ибо, если верить официальным отчетам и отзывам коллег и пациентов, Робин показал себя не только умелым, исполненным сострадания врачом-клиницистом, но и незаурядным ученым – редкое сочетание, что и говорить! Реакция большинства пациентов, участвовавших в экспериментальном исследовании, была, как мы увидим в следующей главе, необычайно положительной, по крайней мере первое время. Во время обеда в лондонском ресторане в Вест-Энде Робин рассказал мне об одной женщине (она тоже принимала участие в эксперименте), подавленной настолько, что те несколько раз, когда им пришлось встречаться и общаться, она ни разу не улыбнулась, и никто вообще не видел ее улыбающейся. Так вот, когда она лежала, полностью ушедшая в себя под действием псилоцибина, а он сидел подле нее в качестве ассистента, она, по его словам, впервые улыбнулась и сказала: «Так приятно улыбаться».
– После окончания сеанса она рассказала, что к ней приходил ее ангел-хранитель. Она описала некое подобие живого существа, его голос, полный ободрения и поддержки и желавший ей скорейшего выздоровления. Ангел говорил ей вещи вроде: «Дорогая, тебе нужно чаще улыбаться, держи голову как можно выше и перестань глядеть в землю». «Затем он протянул ко мне руки, – сказала она, – и развел мои щеки в улыбку, приподняв уголки моего рта».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: