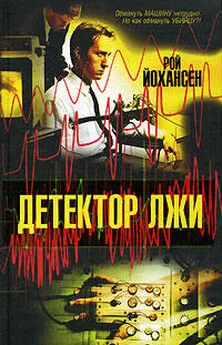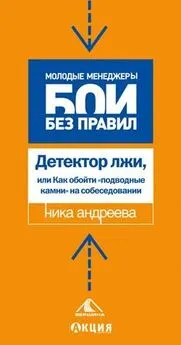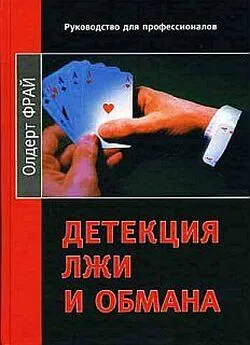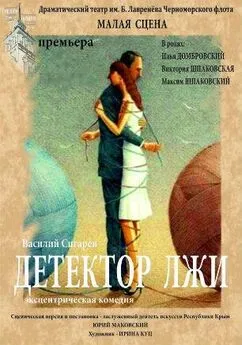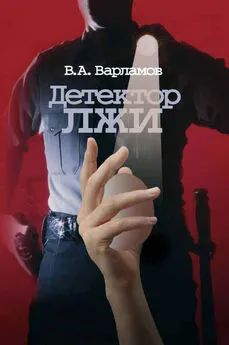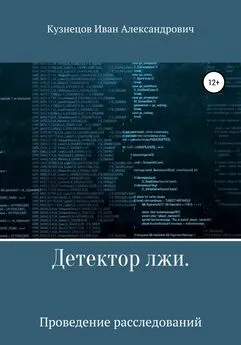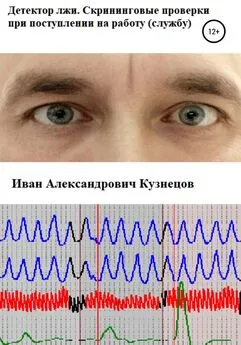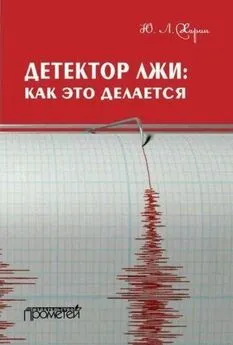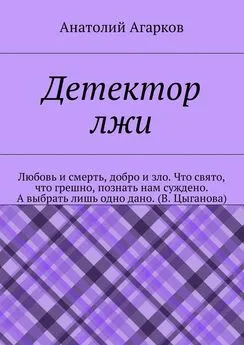Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи
- Название:Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Прайм-ЕВРОЗНАК»
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-93878-278-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи краткое содержание
Почему люди лгут? Как распознать ложь и обман в поведении и речи человека? Эти фундаментальные вопросы находят свое решение на страницах предлагаемого руководства. Без сомнения, эта книга — самый важный за последние годы вклад в теорию и практику психологии лжи и обмана. Впервые так полно и ясно представлены исследования психологических и физиологических показателей правдивого и лживого поведения и речи, а также — фактология использования метода детекции лжи и обмана с помощью полиграфа («детектора лжи»). Эта книга принесет пользу всем, кто должен знать, говорят ли окружающие правду, и иметь практическое руководство, чтобы обеспечить себе это знание — для социальных и юридических психологов, криминалистов, политических консультантов и адвокатов.
Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Экспериментальные исследования
Несмотря на то что процедура ОВУ предназначается специально для работы с детьми, на сегодняшний день мы располагаем результатами лишь немногочисленных экспериментальных исследований с участием детей. В сущности, дети составляли экспериментальную выборку только в трех исследованиях (Akehurst, Kohnken & Hofer, 1995; Steller, Wellershaus & Wolf, 1988; Winkel & Vrij, 1995). В других исследованиях в качестве испытуемых выступали взрослые люди. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о правомерности применения процедуры КАУК к утверждениям взрослых. Некоторые авторы рассматривают КАУК как методику, предназначенную исключительно для оценки утверждений детей, предположительно переживших сексуальное насилие (Honts, 1994; Raskin & Esplin, 1991 b). На самом деле критерии, подобные критерию 10 (точно воспроизведенные, но неверно истолкованные подробности), применимы только в работе с маленькими детьми. Подобная точка зрения строится на убеждении в том, что проводить лабораторные исследования с применением КАУК не представляется возможным, так как по ряду этических и юридических причин мы не можем в лабораторных условиях моделировать преступления сексуального характера, с тем чтобы участники эксперимента испытали то, что испытывают жертвы сексуального насилия.
Другие эксперты отстаивали точку зрения о возможности использования этой техники как вспомогательного инструмента для оценки достоверности показаний подозреваемых и взрослых свидетелей при рассмотрении уголовных дел, не носящих сексуального характера (Kohnken, Schimossek, Aschermann & Hofer, 1995; Ruby & Brigham, 1997; Steller & Kohnken, 1989). Они указывали, что диапазон применимости гипотезы Ундойча не ограничивается ни детским возрастом, в каком бы качестве — свидетеля или жертвы — ни выступали дети, ни сексуальным характером преступления.
Выборки 11 из 12 лабораторных исследований состояли из очевидцев происшествий. Они наблюдали то или иное событие, а затем получали инструкцию рассказать об этом событии правду или сфабриковать свои показания. И только в исследовании, которое провели Портер и Юилл (Porter & Yuille, 1996), участниками были виновные и невиновные «подозреваемые».
По сравнению с полевыми исследованиями лабораторные эксперименты выявили меньше различий между лжецами и участниками, говорившими правду (см. также табл. 5.3) [6] Говоря о лабораторных экспериментах, можно использовать термины «лжецы» и «говорящие правду». Но что касается полевых исследований, то в этом случае использование термина «лжец» недопустимо, так как мы не знаем наверняка, намеренно ли этот человек говорит неправду.
.Однако почти все различия соответствовали предварительным ожиданиям исследователей, при этом выделенные критерии чаще встречались в правдивых свидетельствах, нежели в сфабрикованных, что в очередной раз подтверждает гипотезу Ундойча. Почти все данные, расходившиеся с общей моделью, были получены в ходе исследования Руби и Бригема (Ruby & Brigham, 1997). О причинах такого положения вещей я могу только догадываться. Во-первых, в их исследовании оценку проводили эксперты, подготовка которых к применению процедуры КАУК проводилась в предельно сжатые сроки (она заняла 45 минут), что не позволяет причислять их к категории опытных судей или «экспертов по КАУК». Во-вторых, Лондри и Бригем объясняют эти неожиданные результаты, касающиеся логической структуры утверждений и описаний психического состояния нападавшего, тем, что, возможно, участники их эксперимента изо всех сил старались сделать свои сфабрикованные утверждения как можно более правдоподобными, а одним из наиболее простых способов этого добиться было убедиться, например, в наличии в рассказе логической структуры. Таким образом, напрашивается вывод о том, что лжецы могут оказывать влияние на процедуру оценивания КАУК. Чуть позже я еще вернусь к проблеме подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно проводить оценку в соответствии с процедурой КАУК, и к тому, кому и каким образом удается обмануть бдительность экспертов, проводящих КАУК.
Данные, представленные в табл. 5.3, свидетельствуют о том, что выделенные нами критерии чаще фигурируют в правдивых рассказах как взрослых, так и детей. Как нельзя лучше это было продемонстрировано в исследовании Эйкхерста и его коллег, поскольку авторы сформировали выборку, включавшую и детей, и взрослых. Они не обнаружили сколь-либо значимых различий между этими возрастными группами, вместе с тем, согласно их данным, критерии, которыми мы оперируем, чаще встречались в правдивых сообщениях представителей обеих групп. Портер и Юилл (Porter & Yuille, 1996) в своих исследованиях показали, что некоторые критерии чаще встречаются в показаниях невиновных подозреваемых, чем тех подозреваемых, которые действительно совершили инкриминируемые им преступления. Данные, полученные в ходе этих исследований, позволяют сделать вывод о том, что диапазон применимости процедуры оценивания по критериям КАУК не ограничивается только утверждениями детей, ставших жертвами сексуального насилия, напротив, ее можно применять и при других обстоятельствах, при проведении интервью с другими фигурантами.
Достаточно бегло взглянуть на эмпирические данные, полученные по каждому из 19 критериев, чтобы определить, что максимальное подтверждение получает критерий 3. Люди, рассказывающие правду, упоминают в своем рассказе больше подробностей, чем лжецы. Контекстуальные вставки (критерий 4), описание взаимодействия (критерий 5), воспроизведение разговоров (критерий 6) и необычные подробности (критерий 8) — все эти характеристики значительно чаще присутствуют в правдивых рассказах, чем в сфабрикованных. Я уже выдвигал ряд предположений, которые, как мне кажется, могли бы это объяснить, а именно: лжецам просто не хватает фантазии обогатить свой рассказ многочисленными подробностями, они не упоминают о каких-либо деталях, так как не догадываются, что на основании дефицита или изобилия подробностей эксперты будут судить о достоверности предоставленной ими информации, или они избегают включать в свой рассказ слишком много деталей из боязни, что в этом случае повышается риск появления в рассказе противоречий, или что если интервьюер проверит их слова, факт лжесвидетельства может всплыть на поверхность.
Критерий неструктурированного изложения информации (критерий 2) тоже получил существенное подтверждение. По сравнению с теми, кто говорил правду, лжецы, как правило, рассказывали о происшедшем, придерживаясь хронологии событий (сначала произошло то-то, затем это, после этого случилось вот это… и т. д.). Строгая хронологическая структурированность показаний лжецов, вероятнее всего, определяется тем, что не так-то просто рассказать сфабрикованную историю в обрывочных, непоследовательных фразах, особенно если человек вынужден выдумывать происшедшие события прямо на ходу. Если вместо хронологически выверенного и структурированного рассказа лжец будет упоминать отдельные разрозненные эпизоды и сцены, велика вероятность, что он начнет противоречить самому себе. В исследовании, которое провели Запар- нюк, Юилл и Тейлор (Zaparniuk, Yuille & Taylor, 1995), различия по критерию неструктурированного изложения информации между лжецами и людьми, говорившими правду, было единственным значимым различием, которое удалось выявить. Впрочем, опираясь только на этот критерий, они смогли достоверно «вычислить» 70 % сфабрикованных утверждений и 90 % правдивых рассказов!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: