Робин Робертсон - Введение в психологию Юнга
- Название:Введение в психологию Юнга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Робин Робертсон - Введение в психологию Юнга краткое содержание
Введение в психологию Юнга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юнг выразил позицию интровертов кратко: «Мир существует не просто сам по себе, он таков, каким его вижу я!» В классическом виде вопрос о противоборстве между экстравертностыо и интровертностью впервые был открыто поднят в философии. Философская версия интровертности носит название «идеалистическая позиция». По выражению британского философа XVIII века епископа Джорджа Беркли, вcе, что мы испытываем, суть мысли, возникающие в нашем уме. Поэтому они — единственное, ЧТО нам дано узнать о реальности. Настаивать, что «там, снаружи» существует нечто, бессмысленно. Все, что нам известно, это то, что мы испытываем «здесь, внутри».
Приблизительно в то же время шотландский философ Дэвид Юм пришел к отрицанию Самого базового принципа экстраверсии - каузальности (причинной связи). Мы попросту принимаем как должное, что одно явление становится причиной другого. Вся классическая логика Аристотеля основывается на силлогизмах (например, А подразумевает В, а В подразумевает С, следовательно, А подразумевает С). По Ньютону, на всякое действие имеется равное ему противодействие. Или, если выразиться проще, — каждое следствие имеет свою причину. Юм выбил почву «из-под ног» причинно следственной связи, обратившись за аргументами в область разума. Допустим, мы утверждаем что бейсбольный мяч меняет направление При столкновении с битой потому, что ударяется в биту. Юм в этом случае доказывал бы: все что мы можем с полной уверенностью утверждать, так то, что мяч ударился о биту и полетел в другом направлении. Оба события связанны и во времени и пространстве в нашем восприятии. Однако нет никакой логической необходимости утверждать, что одно событие стало причиной другого.
Исходя из этого мировоззрения, реальный мир не объективен, а субъективен. Еще более великий философ, Иммануил Кант, в конце XVIII века выступил в поддержку этого взгляда и дал ответ, предвосхитивший воззрения Юнга на этот предмет. Кант заявил, что объективный внешний мир существует, но познавать его можно только с помощью фильтра, который обеспечивает наш разум. Уже при рождении нас наделили психическими структурами, к которым «примеряется» наше восприятие реальности. Мы способны познавать реальность только посредством этих структур. Конечно же, в этой книге мы встречались со структурами, которые Юнг определил как «архетипы», а я — как «когнитивные инварианты». Кант полагал, что подобные структуры являются необходимым ограничением человеческих возможностей и мы никогда не сможем узнать «das Ding an sich» («вещь в себе»).
Но если объективно, даже взгляд Канта страдал близорукостью. Как получилось, что когнитивные инварианты, призванные для «фильтрования» реальности, находятся в таком удивительном соответствии с этой реальностью? Они действуют не по принципу «проб и ошибок», когда мы налетаем на предметы, не заметив их, и набиваем шишки или обжигаемся, касаясь предметов, с виду показавшихся нам холодными. Нет, когда мы познаем мир с помощью когнитивных инвариантов, то словно обладаем точной «картой» реальности, доступной восприятию с помощью человеческого разума. Те же самые когнитивные инварианты совершенно иным образом проявляются в рыбе, которая живет в абсолютно иной среде и сенсорные способности которой отличаются от человеческих. Однако когнитивные инварианты внутреннего мира и объекты внешнего, очевидно, каким-то образом представляют собой два аспекта одного и того же явления.
Все мы обретаем опыт внешнего мира через наш внутренний мир. Экстраверты игнорируют промежуточный процесс и ведут себя так, словно общаются с внешним миром напрямую. Интроверты концентрируются на внутреннем процессе. По этой причине интроверты склонны к солипсизму (вере, что не существует никого и ничего, помимо человека, думающего об этом).
Мой друг-интроверт убеждал меня, что поскольку именно он воспринимает мир и принимает решения относительно внешнего мира, из этого следует, что никакого внешнего мира (для него) не существует до тех пор, пока он не начинает думать о нем. Трудно спорить с Такой позицией, но экстраверт даже не станет утруждать подобным спором, потому что ни один экстраверт не относится к внутреннему миру настолько серьёзно. В своей бессмертной «Жизни Джонсона» Босуэлл рассказывает, как Джонсон (экстраверт из экстравертов), познакомившись с доводами Беркли, пнул ногой лежащий рядом камень и торжественно провозгласил: «Вот мое опровержение». Конечно, этим он ничего не мог опровергнуть, потому что только в своем уме почувствовал, что пинает камень ногой, и только в умах окружающих людей создалось впечатление, что он пнул этот камень. Различия между экстравертом и интровертом в этом вопросе являются не логическими, а эмоциальными.
Интроверт чувствует себя свободно во внешнем мире, лишь когда у него есть внутренняя модель этого мира. Мария-Луиза фон Франц вспоминает, как Юнг рассказывал ей о ребенке, который ни за что не хотел входить в комнату, пока ему не называли каждый элемент обстановки там. Один интроверт как-то признался мне, что более всего в новой ситуации его приводит в замешательство, что он может встретиться с каким-либо человеком или понятием, с каким никогда не сталкивался прежде, и не будет знать, как относиться к этому или каким образом вести себя. Еще один интроверт объяснил мне, что ему стало гораздо спокойнее, когда он разработал для себя набор определенных правил поведения в социальных ситуациях. Только в случае неизбежной необходимости он позволял себе как-то менять эти правила, адаптируя их к новой ситуации.
Подобно тому, как экстраверта его интровертивная подчиненная функция влечет к внутреннему миру, подчиненная функция интроверта — экстраверсия — притягивает интроверта к внешнему миру. Важно, чтобы интроверт действительно вступал в контакты с внешним миром, а не прятался за ширмой своего внутреннего опыта. В романе Германа Гессе «Степной волк» дается классический портрет интроверта, затянутого в чувственный мир жизненного опыта. Для героя-интроверта в качестве символа чувственного экстраверта выступает саксофонист. В наше время мы могли бы заменить саксофониста рок-звездой.
Мне кажется, что к этому моменту читатель уже получил более полное представление о двух противоположных отношениях к миру. Он уже в состоянии определить с некоторой долей уверенности, кем является сам — интровертом ИЛИ экстравертом, и, возможно, идентифицировать тип многих других людей, имеющих для него значение.
Далее мы перейдем к подробному обсуждению четырех функций - мышления, чувства, ощущения и интуиции. И, наконец, поговорим о восьми психотипах, которые образуются сочетанием основной установки, или отношения к жизни и функции. Само собой разумеется, мы можем пойти еще дальше и поговорить о шестнадцати комбинациях установки, главной и второстепенной функции, но надо же когда-нибудь и остановится!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

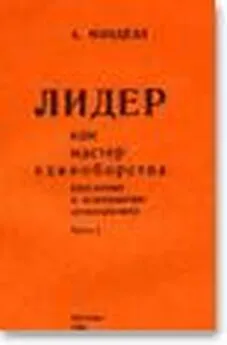
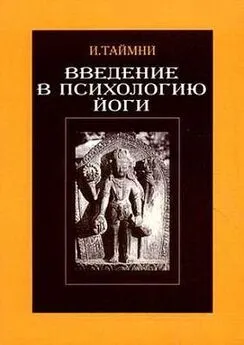



![Робин Робертсон - Со стыда провалиться [Невыдуманные писательские истории]](/books/1099441/robin-robertson-so-styda-provalitsya-nevydumannye.webp)
